Остромов или ученик чародея краткое содержание
Обновлено: 07.07.2024
Но в основном литературные и прочие фигуры эпохи присутствуют в романе как персонажи или просто упоминаются в разговорах почти под своими настоящими, слегка искаженными, но узнаваемыми именами и фамилиями. Как в "Оправдании" возникали Олеша и Бабель, так в "Остромове", помимо уже перечисленных, всплывают Шкловский и Тынянов: "Хорошо было Юрию: Юрий стал писать исторические романы. Льговскому неинтересно было писать про то, что все и так поняли". Именно Льговскому принадлежит, может быть, самая емкая на всю почти 800-страничную книжку философическая максима: "Мне давно ничего не нравится, и я привык. Всю жизнь привыкаешь, потом умираешь - значит, приспособился". Опосредованно касается Быков обэриутов: "Будущее было за бабуинами - Общества будущего буквального искусства, сокращенно Обубуи. Они были те буи, за которые надо заплыть, и то буйство, без которого ничего не начинается". Возникает, совсем уж казалось бы случайно, как один персонаж из массовки на съемках кинофильма из жизни "бывших", будущий академик, кумир всех филологов (мой в том числе) Елеазар Моисеевич Мелетинский, и его судьбу Быков прослеживает кратко, но до конца, попутно припахивая его хлесткую формулировку к собственным представлениям: "согласно догадке Мелетинского, нацию делают две эпические поэмы - о войне и о странствии, - и одна без другой невозможна. (. ) На вопрос одного из своих студентов, где же русские "Илиада" и "Одиссея", он ответил, что, значит, русские не нация - каковой ответ в 1947 году стоил бы ему свобооды, но, к счастью, на дворе уже был 1973-й, и через год академик стал недосягаем для земных властей". Позволяет себе Быков и литературную пародию - как в "Орфографии" он остроумно стилизовал один из фрагментов под модернистскую прозу 1920-х годов, так здесь ернически пересказывает сюжет "Любови Яровой" Тренева: "Единственным современным спектаклем Госдрамы была только что переданная лично автором революционная трагедия бывшего знаньевца Деденева "Вера Народная". Она гремела. Учительница Вера Народная встречала на базаре, в деклассированном побирающемся виде прячущегося мужа, белого офицера, и мучительно колебалась - сдать, не сдать? Корнелевский выбор осложнялся тем, что в нее влюблен был матрос Шкондя. Мужу она в конце концов давала убечь, но тут оказывалось, что Шкондя следил за ситуацией с самого начала и, не будучи в действительности влюблен, втерся в дом Веры единственно для пресечения контрреволюции".
Иллюзия, с которой Быков не расстается, за которую по интеллигентски цепляется еще с "Орфографии" - это вера в спасительность слова. Ее он даже не подвергает сомнению, а его персонажи - и подавно: "слово не было лишним, как он боялся; оно могло быть спасительно". Для самого Быкова, острого публициста, но с претензией на достижения и чисто художественного порядка, эта иллюзия нередко оказывается губительна, в лучшем случае сомнительна. Слишком поверхностны
символические значения имен главных героев - Даниил и Надежда, не говоря уже об анаграмме Даня-Надя; вульгарна игра с "понимающим" читателям в поддавки через подмигивания типа "на даче Хитровых или Громеко", вторичны приколы вроде имени Риголетта у одной из третьестепенных героинь - "я сама так записалась, вы оперы не знаете" (у Быкова в прежних книжках уже встречалась Травиата - присваивая девочке имя, родители перепутали имя с профессией). Филологические изыскания Быкова в области семантики ритма, которые и в "Пастернаке" не вызывают особого доверия, совсем уж неуместны в опусе с замахом на повествовательную прозу: "Надежда может быть там, где дактиль - ТАтатам, ударили и отпустили, или амфибрахий, таТАтам, накатило, ударило и откатилось. А где татаТАМ - там все". А иные поэтические штудии вызывают неудобство и у автора - тогда он, не в силах отказаться от них, перекладывает на плечи персонажей, так, например, Коган у него сочиняет стихи из чужих строк: "В моей душе лежит сокровище, лежит и смотрит, как живая. Ты право, пьяное чудовище, красивая и молодая". Особенно раздражают пассажи, представляющие собой образчик небрежно отредактированных попыток "высокой прозы":
"тлела, зеленела, светилась дальней оранжевой полосой над городом весенняя ночь, в приоткрытое окно веяло сладкой гнилью близкой воды, и вся комната была полна вешним, исконно питерским запахом гнили и похоти, размножения и разложения". И фирменные быковские обобщения, вульгарные, скорее ради красного словца, чем несущие свежую мысль: "Всякому молодому человеку, в особенностью между шестнадцатью и двадцатью двумя годами, непременно надо, чтобы ему было куда пойти между шестнадцатью и двадцатью двумя часами, и лучше всего дважды в неделю, чтобы не остыть, не заветриться и вместе с тем не переесть и не надоесть".
"Армянин Егибян куда-то делся, может быть, погибян"; "в кухне хлопотливо хлопотала хлопотунья Соболева"; "нэп нелеп"; "забавного масона ленинградского фасона"; "Лара с Ригой рыгали"; "рифмы сквозили, как нимфы" и т.д. и т.п.
Подобные изыски порой украшают его повествование, но чаще утяжеляют, уводят от главного, мало что предлагая взамен - эстетическая их ценность, мягко говоря, небесспорна, в отличие от публицистического, памфлетного заряда. И совершенно лично для меня необъяснима быковская гомофобия - не идейная, присущая православным фашистам и тому подобным изуверам, но какая-то животная, и тем не менее реализованная все в тех же вульгарных обобщениях: "Бывают добрые педерасты, безалаберные, похожие на шумных пьяных актрис; а Неретинский был злой педераст. (. ) Он презирал, конечно, людей, но этой касте прощается и даже приветствуется: люди радуются, что их презирают за нормальность, вздыхают с облегчением и снова принимаются за гадости. (. ) Им на откуп отдавалось все сложное, хотя на деле механическое: балет, Пруст. Человечное им, в силу странной ущербности, не давалось. Но презирать им дозволялось, потому что они не мы. Вообще в России все только и делают, что презирают: чем еще заняться-то?" - как можно в одном абзаце нагромоздить столько хуйни?
Вторая часть заглавия, "Ученик чародея", настраивает на сказочный лад, но не "легенда о Хасане", которая проходит через весь роман, ни сказка про "кашу из топора", возникающая ближе к концу, ни повторяющаяся песенка Нади про Зарю-Заряницу не должны обманывать - Быков не мастер загадывать загадки, тем более высокохудожественные, и его попытки сработать нечто вроде "легенды о Великом Инквизиторе" тщетны, а еще более тщетны попытки рассматривать книгу в целом через эти вставные новеллы, как того требует традиционная литературоведческая методика. Быков и в повествовательной прозе (как и в драматургии, как и в поэзии, хотя его вирши я бы "поэзией" не называл даже номинально) остается публицистом, так что все важное и все по-настоящему ценное в "Остромове" сказано прямо, в лоб, открытым текстом.
Главная, самая волнительная для Быкова мысль в "Остромове" прежде формулировалась им не столько в беллетристических произведениях, сколько в биографии Пастернака, но здесь она оформлена через судьбу вымышленных героев, хотя пафос все тот же: "Выносливы либо самые сложные, либо самые простые. будь либо сверх, либо недо, а человеку в нечеловеческие времена делать нечего". Она повторяется, как навязчивый мотив: "Мать учила бояться податливого и верить твердому, пусть и недоброму с виду". Собственно, после этого Быкову остался один шаг к принятию того, что "человеческих времен" в этой стране сроду не бывало, да и откуда взяться человеческим временам в отсутствие людей - с кем? для кого? если уж еще Чаадаев почти двести лет назад недоумевал, предназначена ли эта земля для жизни разумных существ?
"Остромов" - не просто своеобразное продолжение "Орфографии", но связующее звено между "Орфографией" и "Оправданием", а дальше цепочка ведет к "Эвакуатору" и "Списанным", с которыми "Орфография" и "Остромов" связаны мотивом "бывших" людей: "новая власть не озаботилась, слишком решительно СПИСАВ их со счетов" - это из "Остромова", но относится и к персонажам "современных" романов Быкова. Если что-то Быкова и волнует всерьез, если что-то представляет для него реальную проблему, вопрос, требующий разрешения и ответа на который он не знает, но ищет и действительно хочет узнать - то он касается этих персонажей и того, что с ними будет дальше. Что будет дальше с Остромовым и Галицким, допустим, известно, и Остромов, и Галицкий интересны Быкову (и читателю) не в контексте только лишь их эпохи, но прежде всего сегодняшних реалий:
"- Мне обидней всего, что нас наказали не за то. (. ) Мы жили неправильно, и роскошно, и мало работали (. ) Но наказали нас не за это. Нам досталось, я хочу сказать, не наше воздаяние. Как будто мы если слишком много сладостей, а нас поставили таскать камни. Я говорю не о несоразмерности, а как бы о другом жанре. Как будто я первый акт протанцевала в декорациях ну хотя бы галантного века, и там кого-то отравила, ну хтя бы мужа, а во втором уже не балет, а драма, и не из галантного века, а из каменного.
- Почему же, - отозвался Альтер, - так и есть. Но напрасно вы думаете, что это ошибка. Перемена жанра и есть наказание. Это всегда так бывает, в первом акте танцуешь, а во втором камни".
"Запах летней гнили уже сменился в Ленинграде запахом осенней прели, от которого так недалеко уже от запаха зимней смерти, влажного каменного холода, который сменится ароматом бурного весеннего разложения; ничто, ничто не пахнет жизнью, но это и прекрасно, ибо если, падши в землю, не умрет. " - примечательно, что части романа озаглавлены "посезонно", и ближе к концу у одного из персонажей возникает мысль, что ссыльные интеллигенты разлетятся по Советской России, как семена, и оплодотворят. Но сам Быков, кажется, разуверился в этом если не на сто процентов, то почти. И понимает, что надежды нет, а то, что кажется ужасным сейчас - лишь приуготовление к тому куда более страшному, что будет потом и наступит скоро. Потому ему важно из "сегодня" обратиться в 1920-е, относительно "вегетарианские" годы. Галицкий в романе, то ли успокаивая, то ли предупреждая, говорит: "Просто на них идет сила, которую они разбудили, которой они сами еще не знают и в сравнении с которой они - ничто. Потому что они обрушили не столько самодержавие, которое, действительно, бог с ним. Они обрушили какие-то конвенции, старые договоры, без которых теперь с ними самими можно будет сделать что угодно. И кто-то сделает - я только не знаю, кто. Так что мы еще будем о них жалеть. ".
"Мы ничего не утаиваем, гражданин читатель" - заигрывает, успокаивая, что ли, сам себя автор. Надежды нет ни на внутренние ресурсы (на кого? на народ-уголовник, что ли?), ни на внешнее вмешательство. "Запад промолчит. Он теперь на все молчит. Да никому и дела нет. Одни дикари едят других дикарей - что, кто-нибудь вступается?" Для Быкова и его "любимых персонажей" (если к Быкову, как к Толстому, применимо понятие "любимых персонажей") даже военный коммунизм - не самое горькое, потому что в нем была надежда и был воздух. "Выходило, что если ради великого переустройства, то можно было стерпеть и голод, и холод, и Чеку, а вот когда вышло, что ничего не вышло, - тут уже стали бесить и пирожки с капустой". ". При военном коммунизме была какая-то холодная прелесть, как после эфира, боже упаси тебя попробовать. А сейчас все это как будто гроб повапленный, все ненастоящее,словно ожили после смерти" - рассуждает дядя Дани.
Все плохо, и хуже чем когда-либо, но худшее впереди - таков вывод Быкова из сконструированной им историософской концепции, которую он предлагает в начале 23-й главы "Остромова", пользуясь пресловутыми "двумя-тремя метафорами", для сочинения которых он нашел свободное время в перерывах между своей бурной и разнообразной деятельностью.
"Мы напомним сейчас, что происходило вокруг, хотя над разъяснением этих дел бились многие умы, честно пытавшиеся смотреть на вещи с человеческой точки зрения.
Истина же заключается в том, что (. ) к 1915 году вся развесистая конструкция, называвшаяся Россия, с ее самодержавной властью, темным народом, гигантским пространством и огромным разрывом между всеми без исключения классами (. ), была нежизнеспособна, то есть мертва.
Мертвы были разговоры о ценностях и смыслах, мертвы реформы и контрреформы (. ), мертва была исстория, пять раз прошедшая один и тот же круг и смертельно уставшая от себя самой; мертвы были слова, ничего больше не значившие, и люди, ничего больше не понимавшие; мертвы были те, кто это понимал, и те, кто с этим еще не смирился.
Были, впрочем, те, кто хотел гальванизировать этот труп и заставить его пройти еще один круг - в самой сжатой и стремительной форме повторив все то, чем он обычно сопровождался: революцию с ее кратким периодом вертикальных перемещений, оцепенение с установлением монархии, краткий косметический ремонт введением умеренных свобод и окончательное впадение в старческое безумие. Трупу дали сильнейший шоковоый, токовый удар, и труп пошел.
Все песни его были песнями трупа, а беды и победы - горестями и радостями червей в трупе. На всем, что он делал, лежал мертвенный свет, и любимыми его героями в самом деле были павшие бойцы. Больше всего труп любил увековечивать мертвых - живым в нем было неуютно. Иногда он уставал, останавливался, кренился, - но ему давали новый разряд: так тебе! Как всякий труп, он расцветал и оживал только от новых смертей, и то ненадолго: миллион от голоду, миллион высланных, миллион выселенных!
И труп ходил.
Пять миллионов мертвецов были сорваны с мест и строили для него заводы, шесть миллионов срывали горы и выплавляли сталь, семь миллионов охраняли кладбищенский порядок и стояли под ружьем, все они мерли без числа в болотах, тайге, пустынях, угрожали друг другу и охраняли друг друга, а когда движение их замедлялось - трупу давали новый удар, и удары требовалось усиливать, так что число жертв росло неуклонно, - но, мертвые, они не замечали собственной смерти, а многие оправдывали ее.
И труп ходил.
Когда собственных сил для его гальванизации стало не хватать, его искусно втравили в новую войну, старательно вырастив достойного врага, и враг этот дал трупу такой удар, какого не выдержал бы никто из живых, - но мертвец выдержал и завалил, задушил врага миллионами трупов, и сорок лет питался памятью об этой победе; лучшие были истреблены, первое поколение живых вырублено под корень.
Но труп ходил.
Он ходил до тех пор, пока не начал гнить заживо, пока не стал распадаться, теряя пальцы, руки, окраины; пока не разложился, как месмеризированный покойник, спасенный гипнотическим сном накануне смерти и превратившийся в мясную лужу при пробуждении. Семьдесят лет он ходил по кругу, в гротескном и страшном виде повторяя его стадии, пока не рухнул и не растекся по всему бесконечному пространству, распустив над ним облако зловония. И никакой свободы не было в том, что он упал - ибо страшен живой злодей, но хуже мертвый.
И вот мы сидим в этом трупе и ждем, что будет. Никаким током нельзя собрать воедино мясную лужу, никаким страхом нельзя сжать в единый кулак мясную жижу. Благо тем, кто успел убежать наружу. Среди тех, кто остался, живых не вижу".
Ну вот, казалось бы - как солнце из-за туч, прояснилось. И ВДРУГ ТУТ ЖЕ - щелчок в интеллигентском мозгу:
"Может быть дети. Может быть, только дети"
Сказано ведь, самим же сказано: НЕ МОЖЕТ. А все-таки не тонет интеллигентское говно и всплывает "может быть, может быть". Тьфу ты, пропасти на вас нету, колючей проволоки и крематориев не напасешься.
Впрочем, людей Остромов знал достаточно, чтобы ими манипулировать. Его прототип, реальный Астромов-Кириченко, был учеником известного психопатолога Ч.Ломброзо, автором ряда психиатрических эссе о российских террористах. Правда, ни неврологом, ни психиатром ему практиковать не довелось – внезапно Ломброзо умер, по семейным обстоятельствам (родители разорились) не завершил учебу в Турине. Кроме того, подлинный Астромов сам находился на грани помешательства, получив опасную контузию головы еще в японскую войну. Он пытался, если не вылечить себя самого от ее последствий – припадков, судорог, маний, но хотя бы загнать болезнь в приемлемые рамки, сделать так, чтобы органично в ней жить. Роль мастера тайной масонской ложи идеально подходила для этого. И прошлую жизнь помнить можно, и припадки выдать за вхождение в транс, и бредить наяву, уверяя, что это послание свыше.

Роман Дмитрия Быкова "Остромов, или Ученик чародея" в 2011 году удостоен премии "Национальный бестселлер ". В основу его сюжета легло полузабытое ныне "Дело ленинградских масонов" 1925-1926 гг. Но оно, как часто случается в книгах этого писателя (романы "Орфография" и "Оправдание", с которыми "Остромов, или Ученик чародея" составляет своеобразную трилогию), стало лишь фоном для многопланового повествования о людских судьбах в переломную эпоху, о стремительно меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и конформизме, приобретающем статус добродетели. И размышлений о том, не предстоит ли и нам пережить нечто подобное.

отзыв с сайта ФантЛаб

Отзыв с сайта ФантЛаб



Своего рода питерский вариант "Мастера и Маргариты". Мелкий, жалкий Воланд, зелёный Мастер, вначале ещё не понимающий своего мастерства, сердобольная Маргарита, которая в итоге досталась не Мастеру, а Воланду. Бегемот, Коровьев, Азазелло и прочие порублены в мелкий салат и рассыпаны на два десятка второстепенных персонажей. Две трети книги - сплошные тусовки, все говорят, говорят, переходят в другие интерьеры и начинают говорить снова. В финале резкий подъём пафоса. Но читать интересно, захватывает, и живых персонажей больше, на мой взгляд, чем в "ЖД".
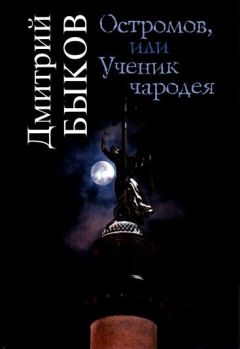
Книга распространяется на условиях партнёрской программы.
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Остромов, или Ученик чародея"
Описание и краткое содержание "Остромов, или Ученик чародея" читать бесплатно онлайн.
Остромов, или Ученик чародея
Б. Астромов-Кириченко-Ватсон (в романе — Борис Остромов)
Д. Жуковский (в романе — Даниил Галицкий)
В работе над этой книгой мне помогали многие друзья, больше других — Александр Зотиков, Лада Панова, Евгений Марголит, Александр Гаррос, Дмитрий Ольшанский, Михаил Успенский, Лев Мочалов, а также сотрудники Дома-музея Волошина в Крыму. Но самую большую и самоотверженную помощь оказал мой друг Максим Чертанов, которого я и прошу принять благодарное посвящение.
Предупреждаю читателя, что описанные в романе способы подготовки к левитации ни в коем случае не следует практиковать в одиночку и без тщательной теоретической подготовки. Залог успеха — вдумчивость, основательность и доверие.
Названия частей книги имеют не хронологический, а особый сверхлогический смысл и обозначают не столько времена года, сколько степени познания.
Глупцы, пускаясь в авантюру
С одной лишь низостью в душе,
Себе приписывают сдуру
Всю авантюрность Бомарше.
Естественно, у бомаршистов
Ум изощрен, размах неистов:
Сейчас дракона обкрадут,
Змею вкруг пальца обведут!
Но жертвы их корысти страстной,
Как поглядишь со стороны,
То беззащитны, то больны,
То простодушны и несчастны…
Так верят в добрую судьбу,
Столь кротко носят на горбу
Груз незаслуженных мучений,
Что Бомарше — добряк и гений —
Перевернулся бы в гробу.
Люди, которые живут одиночками, которые все же немыслимы вне нашего времени и нашего пространства — занимают меня. Они — одиноки, враждебны друг другу, каждый из них живет за самого себя и ничем не обязан соседу, любовнице, брату. Они рождены одной эпохой, вскормлены другой и пытаются жить в третьей.
Но какая разительная и страшная случилась с ним перемена!
Есть дома, в которых никто не был счастлив.
Такой дом сам себе не рад. Стоит он на городской окраине, в конце кривой улицы, перегородив ее и означая собою тупик. За ним овраг, лопухи, зонтики дудника и сныти, ржавые остовы кроватей, разросшаяся сирень, в зарослях которой находят порою такое, что потом без дрожи не можешь вспомнить саму идею сирени. Здесь конец города, начало хаоса. Всякий, кто забрел сюда, хочет прочь отсюда.
Посещать такое учреждение хоть раз в жизни приходится всякому, и всякий норовит уйти оттуда поскорей, ибо чувствует, помимо омерзения, невероятную притягательность деревянного дома на окраине. Так притягивает другое измерение — то, в котором наши смыслы ничего не значат, а есть свои, для нас недоступные. Один совслужащий ходил, ходил за пустяковой справкой, для которой требовались еще и еще справки, — да так и пропал, и никто его не видел, поискать разве в овраге среди сирени. Иногда, выписывая наконец требуемый документ, начальник учреждения в последний момент, занесши уже печать над бланком, вдруг замирал и нехорошо глядел на просителя, как бы предлагая остаться. А может, останешься? Другой двери из этого мира нет, а через нас пожалуйста. Но овраг за домом был так пугающ, а зубы у начальника такие крупные, что проситель отводил взгляд, получал справочку и, не оглядываясь, летел по Защемиловской восвояси.
В таком-то доме располагалось в 1925 году Управление по учету жилого фонда города Ленинграда, занятое учетом пустующих помещений и аварийных зданий, ожидающих сноса.
Весной 1925 года в Ленинграде шептались о судьбе пишбарышни Ирочки, без остатка исчезнувшей среди рабочего дня при обстоятельствах невообразимых. Трудность была в том, что очевидцами ирочкиного исчезновения оказались только прямой его виновник, ирочкин начальник Мокеев, да потрясенная Лариса Шматко, девушка из Полтавы, приглашенная Мокеевым в свидетельницы крутого разговора. Желал дать полтавчанке понятие о своем могуществе, а заодно доставить радость зрелищем чужого разноса — ничего не поделаешь, таким ему представлялся характер Шматко; в другую не влюбился бы.
Читайте также:

