Рассказы алтайских писателей о животных сообщение
Обновлено: 25.06.2024
Писатель Виталий Валентинович Бианки известен нескольким поколениям советских граждан. Его рассказы активно использовались в детских садах и школах, печатались в газетах и журналах. Он написал более 300 произведений и выпустил 120 книг, общим тиражом в 40 миллионов экземпляров!
ДЕТСТВО БУДУЩЕГО ПИСАТЕЛЯ
Виталий родился 11 февраля 1894 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Валентин Бианки , был известным учёным-орнитологом и всю жизнь проработал в зоологическом музее Академии наук. От него Виталий унаследовал интерес к природе: он не только с большим удовольствием слушал рассказы отца, но и сопровождал его в экспедициях, а дома помогал разбирать экспонаты.
Однако интересы Виталия были многосторонними: он очень любил музыку и поэзию, хорошо пел и писал стихи, а ещё серьёзно увлекался футболом, став обладателем Весеннего кубка Санкт-Петербурга 1913 года.
- Но интерес к природе и деятельность отца определили выбор профессий детей: старший сын стал энтомологом, средний метеорологом, а Виталий мечтал стал орнитологом . Потому в 1915 году он поступил на отделение естественных наук Петербургского университета, а в 1916 женился. Начавшаяся Первая мировая война изменила всё и его мобилизовали в армию.
ЖИЗНЬ НА АЛТАЕ ПОД НОВОЙ ФАМИЛИЕЙ
В связи с наступлением войск Красной армии Бианки эвакуировался и успел пожить в Уфе, Екатеринбурге и Томске.
После мобилизации в армию Колчака писарем, Бианки дезертировал в Бийск, скрываясь под фамилией Белянин и выдавая себя за студента Петроградского университета и орнитолога-коллектора Зоологического музея РАН. Когда миновала угроза мобилизации, он вернул себе родную фамилию, однако оставил и вторую. ПИСАТЕЛЬ ДО КОНЦА ЖИЗНИ ПРОЖИЛ КАК БИАНКИ-БЕЛЯНИН.
В Бийске Бианки начал работать в школе учителем биологии и астрономии, там же познакомился с преподавательницей французского, Верой Николаевой Клюжевой, ставшей его второй женой. На Алтае родилась их дочь Елена.
Бианки быстро снискал себе репутацию Просветителя. Именно благодаря его стараниям, значительно вырос уровень культуры города. Работая в отделе народного образования, он помогает открыть Краеведческий музей (первый Народный музей Сибири), где был назначен заведующим.
Позднее стал также и преподавателем школы имени III Коминтерна. Он знакомил с азами биологии школьников и студентов, был активным участником Бийского общества любителей природы, читал в Алтайском народном университете лекции по орнитологии, организовал две научные экспедиции (на Телецкое озеро и по рекам Обь и Ануй).
Для справки:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
- В конце 1925 года Бианки вновь арестовали, обвиняя в причастности к несуществующей подпольной организации и приговорили к 3 годам ссылки в Уральск. После возвращения в Ленинград его дважды арестовывают и приговаривают к 5-летней ссылке со всей семьёй в Актюбинскую область Казахской ССР. Однако, благодаря усилиям жены Максима Горького, все обвинения были сняты.
35 лет писал Бианки о лесе, открыв читателям волшебный мир природы, наполненный невероятными приключениями животных. Свои произведения он называл " сказки-несказки" .
НАДГРОБИЕ РАБОТЫ СКУЛЬПТОРА ЖЕРМЕН МЕЛЛУП ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НАДГРОБИЕ РАБОТЫ СКУЛЬПТОРА ЖЕРМЕН МЕЛЛУП ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Из 4 детей писателя только его сын Виталий продолжил интересы отца и дедушки, став орнитологом и доктором наук.
В 1967 году имя В. В. Бианки присвоено Бийскому краеведческому музею, который является памятником архитектуры регионального значения.
Писатель однажды признался в обращении к читателям:
В давнее прошлое время жила на склоне северных гор львица со львенком. Однажды бродила львица в поисках добычи и выследила стадо коров. Неслышная поступь у львицы, а все-таки услышали ее коровы. Почуяв тревогу, громко замычали они и всем стадом бросилис.
Теперь летучая мышь только ночами летает. А было время - она летала и днём. Летит она как-то, а навстречу ястреб. - Однако, - говорит, - почтенная, я тебя три года ищу. - Зачем же вы меня ищете?
Давным-давно на Алтае жил богатый хан. Скота у него было больше, чем красной брусники в тайге. Он держал в страхе не только людей, даже звери и птицы подчинялись грозному хану. Однажды хан решил перегнать всех своих коней, овец и верблюдов на новые пас.
Как стало тепло, прилетел журавль на Алтай, опустился на родное болото и пошёл плясать. Ногами перебирает, крыльями хлопает. Бежала мимо голодная лиса. Позавидовала она журавлиной радости, заверещала: - Смотрю и глазам своим не верю - журавль пляшет! А .
Алтайцы Одежда представителей алтайских племен различалась в зависимости от социального положения и по районам. Мужская одежда состояла из длинной рубахи (из дабы или ситца) с длинными рукавами, косым открытым воротом, снабженным одной пуговицей, и из широких, немного длиннее колен, штанов из дабы (толстого холста, кожи косули). Поверх рубахи надевался халат (чекмень) с широкими рукавами, большим отложным прямоугольным воротником, который подпоясывался кушаком-опояской из дабы. Женской одеждой у алтайцев был в основном халат, украшенный цветной тканью или вышивкой по вороту, полам и рукавам, который мог слегка отличаться кроем в зависимости от района. Особенной одеждой замужних женщин являлся чегедек, длиннополая безрукавка с широкими проймами, одеваемая поверх любой одежды. Он шился из двух частей: лифа и пришитой к нему юбки, собранной в сборки, на которой сзади был разрез от подола вверх. Чегедек делали из темной материи (из шелка и бархата у богатых), и обшивали вокруг пройм рукавов и воротника, по спине и подолу, оторочкой из позумента или из красной или желтой материи. Его обычно не застегивали, но на левой поле всегда пришивали две большие пуговицы. Носили его круглый год. За поясом женщины хранили трубку и кисет.
Обида марала И тут звери вдруг увидели бегущего вдали марала. Ногами он вершину горы попирал, ветвистые рога по дну неба след вели. Лиса ещё рта закрыть не успела, а марал уже здесь. Не вспотела от быстрого бега его гладкая шерсть, не заходили чаще его упругие рёбра, не вскипела в тугих жилах тёплая кровь. Сердце спокойно, ровно бьётся, тихо сияют большие глаза. Розовым языком коричневую губу чешет, зубы белеют, смеются. Медленно встал старый медведь, чихнул, лапу к маралу протянул : — Вот кто всех краше. Лиса от зависти за хвост сама себя укусила. — Хорошо ли живёте, благородный марал? — запела она.— Видно, ослабели ваши стройные ноги, в широкой груди дыхания не хватило. Ничтожные белки опередили вас, кривоногая росомаха давно уже здесь, даже медлительный барсук и тот успел раньше вас прийти. Низко опустил марал ветвисторогую голову, колыхнулась его мохнатая грудь и зазвучал голос, как тростниковая свирель. — Уважаемая лиса! Белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, у барсука нора здесь, за холмом. А я девять долин миновал, девять рек переплыл, через девять гор перевалил.
Обида марала Поднял голову марал — уши его подобны лепесткам цветов. Рога, тонким ворсом одетые, прозрачны, словно майским мёдом налиты. — А ты, лиса, о чём хлопочешь? — рассердился медведь.— Сама, что ли, старейшиной стать задумала? Отшвырнул он лису подальше, глянул на марала и молвил: — Прошу вас, благородный марал, займите почётное место. А лиса уже опять здесь. — Ох-ха-ха! Бурого марала старейшиной выбрать хотят, петь хвалу ему собираются. Ха-ха, ха-ха! Сейчас-то он красив, а посмотрите на него зимой — голова безрогая, комолая, шея тонкая, шерсть висит клочьями, сам ходит скорчившись, от ветра шатается. Марал в ответ слов не нашёл. Взглянул на зверей — звери молчат. Даже старик медведь не вспомнил, что каждую весну отрастают у марала новые рога, каждый год прибавляется на рогах марала по новой веточке и год от года рога ветвистее, а марал чем старше, тем прекраснее. От горькой обиды упали из глаз марала жгучие слёзы, прожгли ему щёки до костей, и кости прогнулись. Погляди, и сейчас темнеют у него под глазами глубокие впадины. Но глаза от этого ещё краше стали, и красоте марала не только звери, но и люди славу поют.
ГОРНОСТАЙ И ЗАЯЦ
ГОРНОСТАЙ И ЗАЯЦ — Ты как смеешь кусаться? Горностай, будто немой, только губами шевелит, сердце в груди не помещается. - Я. я. охотился,— чуть слышно шепчет. - На кого охотился? - Хотел мышь поймать, ночную птицу подстеречь. - Да, мыши и птицы — твоя пища. А зачем зайца укусил? - Заяц первый меня обидел, он мне на спину свалился. Обернулся медведь к зайцу да как рявкнет: — Ты для чего это горностаю на спину прыгнул? Задрожал заяц, слёзы из глаз водопадом хлещут: - Кланяюсь вам до земли, великий медведь. У горностая зимой спина белая. Я его со спины не узнал. ошибся. - Я тоже ошибся,— крикнул горностай,— заяц зимой тоже весь белый! Долго молчал мудрый медведь. Перед ним жарко трещал большой костёр, над огнём на чугунных цепях висел золотой котёл с семью бронзовыми ушками. Этот свой любимый котёл медведь никогда не чистил, боялся, что вместе с грязью счастье уйдёт, и золотой котёл был всегда ста слоями сажи, как бархатом, покрыт. Протянул медведь к котлу правую лапу, чуть дотронулся, а лапа уже черным-черна. Этой лапой медведь зайца слегка за уши потрепал, и вычернились у зайца кончики ушей!
ГОРНОСТАЙ И ЗАЯЦ — Ну, вот теперь ты, горностай, всегда узнаешь зайца по ушам. Горностай, радуясь, что дело так счастливо обошлось, кинулся бежать, да медведь его за хвост поймал. Вычернился у горностая хвост. — Теперь ты, заяц, всегда узнаешь горностая по хвосту. Говорят, что с той поры и до наших дней горностай и заяц друг на друга не жалуются.

Вместе с небом и землей был сотворен Байбарак-богатырь, ездящий на пятнистом, как барс, коне. Луна и звезды засияли, когда родилась Ермен-Чечен. Она быстрей травы, как камыш, росла. Словно мальчик, диких коней объезжала Ермен-Чечен. Рядом с ней один раз богатырь Байбарак встал; пал на правое колено и, крепко ухватив ее руку, сказал сквозь.

Говорит Уртымбай: - Хочу медведя-Аю убить. Белолобые много жгучей воды за шкуру дадут. Хороший охотник был - любил хвастать. Пошел. Ладно. Аю вылез из берлоги на Уртымбая идет. Пустил стрелу Уртымбай. Мимо. Пустил другую, в плечо угодила. Не успел ножа выхватить, медведь навалился. Обнял. Давит. Думает.
Ходит баран по горам. Жирный. Ладно. Кучича - злая ведьма в болоте лежит. На солнце брюхо греет. Думает: - Если год брюхо на солнце держать - сильно оно блестеть будет? И видит - вверху по горам, баран ходит. Курдюком трясет. Говорит Кучича: - Баран! Дети есть у тебя? - Есть, - ласково отвечает баран. (Все жирные.

В давние времена, в глубокой древности жил на голубом Алтае людоед Алмыс. Были у него длинные чёрные усы, перекинутые за плечи, как вожжи. Борода у Алмыса была до колен. Глаза — налиты кровью. Во рту — большие острые зубы. На пальцах — острые когти. Всё тело покрыто густой шерстью. Был этот Алмыс свирепый, кровожадный, беспощадный.

Раз зимней ночью притаился горностай под кустарником — сидит, мышей караулит. И вдруг словно гора ему на спину свалилась. Ногами горностаю не за что ухватиться, от страха земля из-под ног ушла. Невзвидев света, он обернулся и вцепился зубами в гору. — А-а-а. — раздался страшный крик, плач, стон, и тяжесть свалилась со спины. И.

От жаркого весеннего солнца, от весеннего ветра сморщился снег, съёжился. Стала земля обнажаться, стала трава пробиваться. И звери, и птицы весне рады, только белый заяц плачет: - Снег, снег, не уходи! Меня, белого зайца, не покидай! Всю зиму я в твоём белом пуху ямки рыл, от мороза спасался, от врагов хоронился. На тёмной земле, в зелёной траве.
Это было очень давно, когда все птицы жили в теплых землях. На Алтае щебетали только реки. Эту песню воды услышали южные птицы и захотели узнать, кто так громко звенит, так весело поет, какая радость случилась на Алтае. Однако лететь в неизвестный край было очень страшно. Напрасно уговаривал беркут своих соколов и ястребов, сов и кукушек.
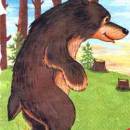
Жил горбатый медведь. Он был настоящий лентяй. Увидел однажды спелую шишку, и тут же у него заныло плечо, под мышкой колоть стало. — Как я, больной, на кедр влезу? Ходит вокруг. Через мелкие колоды шагает. Увидит колоду покрупней — и прямо по ней идет: ему лень шагнуть повыше. Вдруг: стук! — шишка сама упала медведю на темя. С темени к.
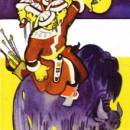
Давным-давно кочевал по Алтаю на синем быке Дьельбеген-людоед. У Дьельбегена семь голов, семь глоток, четырнадцать глаз. От него ни малому, ни старому не скрыться, из его рук ни силачу, ни герою не спастись. Как одолеть Дьельбегена, люди не знали. И каждое утро, когда Солнце, опираясь на вершины гор, всходило на небо, люди.
Поздней осенью прилетели птицы на опушку леса. Пора им в теплые края. Семь суток собирались, друг с другом перекликались: — Все ли тут? Тут ли все? Все ли тут? Оказывается, глухаря не хватает. Стукнул беркут своим горбатым носом по сухой ветке, стукнул еще раз и приказал молодой тетерке позвать глухаря. Свистя крыльями, прилетела тетерка в чащу.
Однажды выбрали птицы павлина зайсаном. Павлин широко раскрыл свой сияющий хвост, высоко поднял голову в зеленой шапке с золотыми кистями. – Зайсан, настоящий зайсан! – закричали птицы. – Женить, женить, женить надо. Женить его надо, женить! – застрекотала сорока. Вот привели к зайсану серенькую куропаточку: –.

У опушки черного леса, на берегу быстрой реки, возле богатых лиственниц жили дед и бабушка. Они под старость, точно зайцы к зиме, совсем побелели. Никого, ничего у них не было, только синяя корова. Старик ночами сказки сказывал, песни свистал. Старуха шкуры звериные разминала, слушала. И так эти сказки гладко текли, что из полусонного черного.

В стародавние времена на Алтае жил богатырь Бабурган, сын богатыря Адагана. Всех превосходил силой Бабурган. Не было ему равных по силе богатырей на Алтае. Характер у него был задиристый. Кого бы ни встретил, обязательно в драку лезет. Стали его люди избегать, никто с ним связываться не хотел. Тогда Бабурган начал без позволения своего.
Поток горный Кара-Су любил кувшинку-Йгу, что в заводях расла. Большая, желтая, как глаза зеленого бога-Кургамыша. Ладно. Целует, ласково подергивает плечами мягкими Кара-Су. Йгу как амулет подпрыгивает, смеется: - Тль. тль. Кара-Су говорит: - Почему ты меня одного не любишь? Всем смеешься. Небу, берегу. Всем. Я так.
Старые люди рассказывают, что песня родилась в далекой Индии, где научила этому искусству людей богиня Песни. Люди других племен, приезжая в Индию, с наслаждением слушали певцов и певиц, проникаясь игрой искусных музыкантов. Горько сожалели они, что в их краях совсем нет песен. Прослышала об этом богиня - покровительница музыки и песен и повелела.
Много лет спасался на горе Тау старец Аянгул. До того молился, что борода в землю вошла, а ноги мхом покрылись. Шепчет чуть слышно: - Кутай, смилуйся, спаси. Ладно. Ехал мимо бог-Вуис, старца увидал: - Что делаешь здесь? - спрашивает. Головы не повернул старец. Отвечает сердито: - Или не видишь.
Давным-давно, рассказывают старые люди, на земле неведомо откуда появилось чудище - семиглавый Дельбеген. Обликом он был, как человек, только на плечах семь голов имел. Когда одна голова ела, другая пела, третья спала, четвертая смеялась, пятая плакала, шестая зевала, седьмая разговаривала. Потом они менялись. Та, что ела, пела. Та, что пела.
Летел над Черными горами дух Ону-злой дух. Конь у него сизый, седло из серого камня, а подпруга из желтой кожи. Ладно. Видит дым густой над тайгой стоит. Гарью пахнет. Старая ведьма Кучича обед себе варит. Ону говорит: - Жарко, поди, Кучича? Почто небо коптишь, нет разве тебе зеленой пищи? Кучича длинным языком нос.
Сейчас конь с коровой не водится. А было время — даже родственниками считались. Вот раз летом пошли два друга на зеленый луг. — Вон густая актамыр-трава. Пожалуйста, корова, кушай. — Нет, дядя конь, это тебе пусть будет актамыр-трава. Так ходили они по светлым холмам. От жары бока у них потемнели. Оводы роями, словно пчелы, вьются.
Туянчи-Осень траву поела, листья дерев жует. Старая, злая; нос - чисто гнилой сучок, лицо - прошлогодняя саранка. Клыки скалит. - Все пожру! Дрожат листья, жмутся - умирать никому не хочется. Ладно. По Желтому озеру на бревне плывет Кургамыш-зеленый бог. Лицо - широкое, ласковое лицо, а глаза, как у лошади - большие.
Койонок-бог (борода - пихта верхушкой вниз) сидел в тени березы с золотыми листьями. Иримчик жует и губами толстыми (доволен!) шлепает: - Н-на. Н-на. А там, подле подошвы горы, далеко, заяц-Куян, обжора, траву щиплет. Смотрит на Койонока, пыхтит: - Хорошо богу живется. Волков на его нет, коршуны трусят.
Было, видишь, так. Полюбила девушка-Кызымиль, красивая девушка (как черемуха весной) доброго бога-Вуиса. Розового, сочного, крепкого - как шишка кедровая. Ладно. Вышла на елань, к солнцу лицо повернула, волосы распустила. Говорит: - Вуис! Вуис! Я тебя люблю. Прилетел Вуис-радостный бог. Улыбнулся, сказал: - Ты.
В стародавние времена на том месте, где сейчас плещет волнами Телецкое озеро, пролегала в окружении высоких обрывистых гор долина, глубокая и узкая. А на склонах гор, по обеим сторонам долины жили два могучих богатыря, и каждый из них считал, что только он достоин права владеть этой долиной. Не раз они пытались отстоять друг у друга это право в.
Жила-была лягушка. Она жила у маленького круглого озера. Вот однажды вышла из своего дома и прыг-скок по берегу, прыг-прыг – в лес заглянула, скок-скок – дорогу домой потеряла. Метнулась туда, кинулась сюда и попала на муравьиную тропу. Муравьи десятками вскочили ей на спину, сотнями вцепились в живот. – Ква-а, – заплакала.
Зимней порой вышел горностай на охоту. Под снег нырнул, вынырнул, на задние лапы встал, шею вытянул, прислушался, головой повертел, принюхался. И вдруг словно гора упала ему на спину. А горностай хоть ростом мал, да отважен. Обернулся, как вцепится зубами в гору – не мешай охоте! – А-а-а-а! – раздался крик, плач, стон, и с горностаевой.
Популярное
В данном разделе представлены замечательные образцы алтайских народных сказок, отражающие фольклорные традиции разных районов республики Алтай. Большинство алтайских сказок записано от сказочников и сказителей. Мифы и легенды этого прекрасного края выразились в том, что сейчас называется алтайские народные сказки. На нашем сайте вы найдете список алтайских сказок онлайн, и сможете читать их абсолютно бесплатно.
Популярные
Новые
Читайте также:

