Символ и сознание мамардашвили кратко
Обновлено: 02.07.2024
Герменевтически предварительным замечанием к пониманию этого теста может быть то, что визави Мамардашвили был часто философ-логик А. А. Зиновьев. И потому тематизация сознания могла происходить в терминах сознания и метасознания, отчасти аналогичных терминам язык и метаязык. Пятигорский, в этом отношении был, скорее, искусным участником диалога. Триггером. Отсюда же и модные термины, вроде "прагматического контекста", что в то время входил в силу, просто потому что и теперь машины искусственного интеллекта, едва ли не ничтожны в нем, разоряют за час, без приказа-запрета, выставленного стопа. И коль скоро, это было явно некое развертывание по ту сторону от традиции трансцендентальной философии, по ту сторону от традиционных форм артикуляции темы рефлексии сознания. И действительно, кажется, что изложение темное, но при выравнивании скоростей чтения и понимания, все оказывается таким же образом на месте, если не в ярме, очередной упряжи отсылок, в которой лишних частей нет. Действительно, сознание, это то, что от не сознания отлично, и таким образом исходно допускается, что есть или может быть то, что сознанием не является. И этот исходный пункт, надо сказать, признания объективной реальности, дает им для начала все. Если так, то позиция метасознания, что трудно не допустить, коль скоро, сознание выбрано темой сознания, сходна с позицией понимания, что по ту сторону рампы, и таким образом, как зрительного зала, так и сцены. Ибо невозможно быть по ту сторону рампы, ни будучи в зрительном зале, ни будучи на сцене , даже в случае суфлера. Но вообще говоря, зритель, как и актер оказываются на границе с такой позицией в самом конце спектакля, овации и поклоны, такая граница. Хлопать в ладоши, значит символизировать, что событие касания произошло. Зритель тронут, ибо и его тело было по ту, и по эту стороны, от рампы. Это и есть граница с метапозицией сознания, короче граница с рефлексией. Но рефлексия, как самосознание, это сущность сознания, и потому еще само сознание оказывается имеет историю возникновения его форм, как и форм его рефлексии, историческое открытие театра было одним из таких событий. Иначе говоря, можно находиться, и по ту сторону от объективной реальности, и от сознания, и не только в труде в сфере материального производства, где это чаще всего встречается, но и очевидно в труде и творчестве новых форм сознания и способов его бытия, рефлексии. Именно поэтому, и то, и другое, может представать то как вещи, индивиды, соответствующие своей сущности по истине, или нет, то как сами по себе такие духовные сущности. Очевидно, такой выход возможен не всецело, просто потому, что тогда теряется сознание или объективность реальности, или, и то, и другое вместе. Но частью этот так, возможность быть по ту сторону субъективности и объективности, как видимости и рефлексии, так и материальной функциональности, это видимо с некоторых пор неустранимое качество истории. Ближайшим образом субъективность, здесь, это просто и не просто, рабочая сила, объективность- средства производства. Трудность, что здесь в особенности может быть сложна, состоит таким образом в том, что духовное производство, в отличие от материального, кажется, вообще не соотноситься с порядками предметности аналогичными тем, что имеют место в материальном производстве. Отсюда и видимость сложного величия и встречного пренебрежения, если не возможного презрения, что может носить обоюдный характер. Кроме всего прочего, здесь неизбежны удвоения, как функции власти идеологии, что может быть в той или иной мере, иметь главенствующее положение в виду мотивов такого занятия. На самом деле, эта функция власти неустранима от духовного производства давно и еще долго будет такой неустранимой чертой власти антагонизмов, как раз по ту сторону от свободы какой бы она ни была, отсюда и речь о сюит(suite) или устройстве, упряжи или даже ярме. Очевидно, однако, что именно по тому же основанию отрицанием отрицания, нужды, может быть, как раз, форма принуждения или власть, как возможность доступа к высвобождению. Позитивность революции, однако, в том, что она не насильственна, прогрессивна и действительно высвобождает.
Действительно, если любое сознание, это самосознание, то метасознание - это самосознание метасознания. И таким образом, неизбежно открытие горизонта неограниченного удвоения. Проблема третьего человека, это просто зеркальная тематизация такого положения дел в отношении логики и языка. Борьба с сознанием, таким образом, это просто и не просто, может быть, кодировка такого горизонта, кодировка потока. Не исключительно забота о терапии отклонений и вынужденных повторений в болезненном гомеостазе сознания. Но третий человек вообще говоря, это просто и не просто, ребенок. Будущее, как возможность, в том числе, и новых форм рефлексии сознания и способов его бытия.
Неограниченный горизонт метасознаний, таким образом, это прямой вызов самого сознания. Особенностью сознания, как и произведения искусства, что символизирует и его бытие является то, что это, и ловушка, если не сеть, что держит, и открытый горизонт, что был бы невозможен без такого скандала. (И проблема вторичной рефлексии, как раз, в том, что редукция символа осуществляется в направлении принудительной буквальности, тогда, когда такая буквальность- это просто неизбежная ограниченность настоящего, эскапизм поэтому один из выходов, бегства от таких вызовов, при том, что, и витать в облаках, скажем математических построений или произведений искусства, или быть внимательным к букве, может быть ситуационно верными средствами).
Начиная с условного исходного пункта, материального производства трудность в том, что даже производя новые формы сознания и способы его бытия, что не безразличны к существованию, поэтому вопрос сознания - это и вопрос существования, экзистируя, сознание никогда не становиться темой и/или объектом всецело. Субъективность неустранимая сторона этого потока.
И это прагматическая проблема работы с ним, позитивная проблема его предметности. Всем было бы хорошо с "Введением" в "Феноменологию духа" Гегеля в этом смысле, если бы с ним, как частью самой такой феноменологии можно было бы остаться в системе. При том, что без него в систему невозможно войти. Как известно подобно вещи в себе "Феноменология духа"- это то без чего невозможно войти в систему, но с ней в системе невозможно остаться. И это очевидно символ отношения сознания и объективной реальности, в том числе. Можно достичь абсолютной субъективности, но после сочетать это знание с общим ходом вещей и властью слов, вернуться, столь оторвавшись от коллектива, может быть затруднительно, если вообще возможно. Если "Феноменология духа" - это лестница в небо, то каким образом отбросив ее, можно вернуться из-за небесной области? Иначе власть слов и вещей, хода дел, и делает из нас вещь среди вещей.
То есть, этот текст Мамардашвили и Пятигорского, был современником очередных начал новой НТР и соответственно новых горизонтов приближения наук и искусств к теме сознания, что уже не укладывались, даже в теорию символических форм Кассирера. Сознание, как и наука становятся непосредственно производительной силой всякого изготовления. Это был несомненно сильный вызов эпохи.
Но коль скоро, речь зашла о прагматическом измерении, то точки и черточки, явно, не свободны от математического символизма, иногда заходящего так далеко, как только возможно в пределы бесконечности и непрерывности, как и являются простейшими предметностями, наглядно демонстрирующими ее дискретность.
Иначе говоря, утверждая абсолютную субъективность, как черту сознания мы не можем не утверждать, что весь технико- технологический уклад, если не основывается в моменте на такой субъективности, то опосредуется ей, что и происходит, когда очередное открытие или изобретение, что ведь может произойти частично и во сне, препятствует тому, что бы весь способ производства обвалился бы под давлением кризиса. В этом, мы, видим, отчасти значимость мистицизма в философии, - коль скоро и теперь индивид это в таких событиях- апейрон,- в том числе и такого игрового, как "якобы Якоби", "младенческого ума". И коль скоро, это метафора, оборотной стороной которой является метафора младенческой же глупости, не стоит тормозить на одной части фрактала, лжи или истине, это поток, что лишь можно попытаться кодировать в логике фракталов, чтобы иметь хоть какую-то формальную меру того и другого. И вот тут становиться значимым переворот АЭ, они прямо начинают с того, что чаще всего оставляют смеженной темой разговоров о сознании, с известных страниц текста "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии", с разума и неразумия, что относительны практики. Бреда вообще нет, как и идеологий, геометрий.
Почему же социальный небосвод не сияет гениями, чьи открытия непрерывно делали бы жизнь лучше, и почему, даже, если и так, можно ничего не знать об этом? Разве не потому, что производство против желания не менее сильно может быть, чем любовь?
И потому конечно текст М и П, скорее стремиться раскодировать поток, чем кодировать его, то есть, сделать сознание еще более привычным, еще более статичным в гомеостазе, еще более индифферентным. Поэтому сознание проблема, не только потому что может быть страшнее любого бессознательного, на манер Бахтина. Они будят.
Но чем еще традиционно занята философия, если не этим, во всяком случае, со времен Платона? И разве у них было оправдание, что они будят к вечности и потому их традиция особенная и царственная? На этом вопросе, видимо, стоит остановить очередное предисловие к очередному, надо думать, ясному как солнце изложению начал философии сознания. Ибо текст книги должен быть ответом и остается только обратиться к его прочтению медленному или нет, письменному или про себя.
Это действительно, может быть все еще, не осмыслено,- и таким образом залогом длительной дальнейшей истории философии, - каким образом все потоки материалистических диалектик могли оказаться так слепы к будущему, которое возвещали? Что было внутренней основой таких казалось мощных машин письма, что легко не делало проблемой то, предчувствие чего было самой глубокой интуицией древности? И все, до чего, иначе, кажется, было возможно додуматься, так это изобретение символизма, -если не открытие вечности и в неоплатонизме, - что заново происходит в этом тексте.
Мераб Константинович Мамардашвили () — советский философ. Научную деятельность начинал в начале годов в Москве. Был одним из основателей Московского логического (позднее методологического) кружка. Прочитал множество лекций в различных университетах Советского Союза и зарубежных стран. В 1980 году переехал в Грузию, где работал в Институте философии и продолжал заниматься научной деятельностью, в основном в узком кругу друзей и единомышленников. Практически не оставил после себя письменного наследия, однако сохранились магнитофонные записи лекций, которые составляют основу его творческого наследия. Ряд этих текстов опубликованы после его смерти.
Предисловие редактора
Содержание
Публикации по теме
Новые произведения
Популярные произведения
Гуманитарный портал ISSN 2310-1792 About • Agreement • Terms of Use Гуманитарное пространство в рамках одного ресурса: гуманитарные науки, рынки гуманитарных знаний, методов и технологий, общественное развитие, государственные и корпоративные стратегии, управление, образование, институты, фабрики мысли. Гуманитарные исследования и аналитика, рейтинги, прогнозы, энциклопедия, библиотека. Всё для изучения и проектирования гуманитарного развития.
Мамардашвили М К & Пятигорский А М Символ и сознание (Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке)
СИМВОЛ И СОЗНАНИЕ
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ О СОЗНАНИИ, СИМВОЛИКЕ И ЯЗЫКЕ
А. Пятигорский. Предисловие ко второму изданию. Заметки об одной из возможных позиций философа Л. Воронина Предисловие От авторов
I. Метатеоретическое введение о сознании 0. Сознание. Работа с сознанием. Теория и метатеория. Язык. Интерпретация 1. Сфера сознания 2. Состояния сознания 3. Структуры сознания II. Введение в понимание символа 0. Знаковые дуализмы 1. Приближение к символу 2. Знак и символ 3. Знание, язык и символ III. Двойственность современной символологии 0. Терминология. Символ - вещь 1. Конкретная символология сознания 2. "Постулаты" символологии 3. Особая категория символов 4. Первичное и вторичное в символике IV. Соотношение символических и естественно-языковых систем как фактор, определяющий характер культуры
Авторы - друг другу
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ. ЗАМЕТКИ ОБ ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФА
Домысел чрезвычайности эпохи отпадает. Финальный стиль (конец века, конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега, мелеет. Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора. Кончается все, чему дают кончиться. Возьмешься продолжать, и не кончится. И я возвращаюсь к брошенному без продолженья. Но не как имя, не как литератор, не как призванный по финальному разряду. Б. Пастернак Перечитывая сейчас "Символ и сознание", я думаю, что там не хватает одного положения, а именно: что мы (я имею в виду авторов книги) не можем (или не хотим, что здесь одно и то же) думать о сознании как о чем-то другом, ином, чем сознание, но можем думать о чем угодно другом как о сознании. Это положение суммирует тривиальность и элементарность нашей феноменологии сознания и может служить заключенной в скобки предпосылкой нашей метатеории сознания. Строго говоря, в философии сознания, как я ее себе сейчас представляю - и с этого момента выражение "философия сознания" будет употребляться только в этом персональном ее значении, - метатеория занимает место теории. Необходимость этого диктуется, между прочим, и тем, что в философии сознания отсутствует оппозиция "субъективное/объективное", обязательная почти для любой теории в философиях классического типа. Разумеется, слово "объективное" здесь употребляется и в смысле "специфический объект": у философии сознания нет своего специфического объекта, поскольку сознание не есть объект, а любой другой объект теряет свою специфичность, будучи соотнесен с сознанием. Позиция философа в отношении любого объекта (включая его самого) определяется его отношением к без такой позиции нет ни философа, ни его философии (хотя вполне возможна наука, теология и т. д.). В моем случае позиция определяется тем, что я считаю, что, в конечном счете то, что предоставлено философу как мышления (включая его собственное) с объектом и субъектом последнего. Мышление философа будет тогда . Здесь формальный, конвенциональный объект первого мышления есть не объект, а "мышление об (определенном) объекте". Последнее обстоятельство исключительно важно, поскольку мы здесь не имеем дела и с "мышлением о мышлении", с отсылкой к мыслящему, то есть здесь мы не имеем дела с В философии сознания "история" есть "мышление об истории", то есть "история как сознание", а не "история как объект сознания" и менее всего "сознание как история". Иначе говоря, "история" здесь - "осознаваемое", содержание которого, "что" которого, не мыслится вне его осознаваем ости. Как идея, как "готовый" результат "бывшего" мышления, история осознается как , то есть как сложное, не-атомарное образование эмпирического сознания. Это, с одной стороны, предполагает внутреннюю сложность, конфигуративность (сложный пространственный образ, рисунок) этой идеи, а с другой - ее вариативность, то есть наличие ряда версий этих конфигураций, построенных, однако, по более или менее одинаковому, общему для них принципу. Теперь одна оговорка. Говоря об "истории", я хочу подчеркнуть, что она как сложная идея ни в коем случае не может редуцироваться ни к квазинатуралистической концепции времени современной науки, ни ко времени взятом в его мифологическом аспекте. Время здесь полагается другой структурой сознания, отличной от "истории". В последней оно фигурирует как от фиксированных в сознании событий, как одна из возможных форм описания этих событий, а не как "константа бытия", конкретизацией которой служит "история". Все это, разумеется, только при то есть с другой (здесь третьей) точки зрения наблюдении (история, мыслящая сама себя - историософский миф). Спешу при этом заметить, что миф как конструкт науки (мифологии) является гораздо более конкретно-описательным, нежели "история". Так, например, думающий об "истории" может назвать свое мышление историческим, в то время как думающий о мифе не может назвать свое мышление мифологическим. Чтобы сделать это, ему сначала придется занять по отношению к самому себе позицию наблюдателя-мифолога. В обоих случаях рефлексия входит как необходимый элемент в установлении позиции философствующего в отношении мифа и "истории" как фактов сознания, сама фигурируя как осознанный способ мышления в метатеории сознания. Рефлексия обнаруживает себя в метатеории сознания как . Именно как способ, а не метод в эпистемологии, способ понимания себя философствующим в отношении употребления (и применения к описанию им самого себя) тех терминов и понятий, которые уже (всегда "уже"!) употребляются , точнее - им не им. В этой связи, когда мы говорим, что позиция философа, какой бы она ни была, должна быть универсальной (что, между прочим, вытекает и из отсутствия в философии сознания специфического объекта, как об этом говорилось выше), то имеем в виду, что рефлексия здесь служит и способом универсализации (равно негативной и позитивной) этих терминов и понятий. Не будучи отрефлексированы, они остаются псевдообъектами, фрагментами чужого онтологизирующего сознания. Это в первую очередь относится - по крайней мере в том, что мы называем "культура", "наша культура", "массовая культура", наконец, "западная культура" (понимаемая как "мета" - или "сверх" -культура), - к понятиям и терминам, связанным с . Точнее, с тем, что эксплицитно или имплицитно, , то есть с тем, что . Лучше всего это видно на примере в названиях и самоназваниях направлений, школ и концепций современной мысли, таких как: пост-модернизм, пост-структурализм, де-конструкция, интер-субъективность и т. д. Каждый из этих префиксов является по существу отсылкой к определенному "прежнему" состоянию мышления как к объекту философской критики. В свою очередь объект прежнего мышления (которое также дано в неотрефлексированном виде) онтологизируется критикуемого мышления, отрицанию, эксплицированному в префиксах "пост-", "де-", "интер-" и т. д. Так теоретик (или критик) постмодернизма исходит из того, что "модернизм" существует (или существовал) не как способ мышления о чем-то или описания чего-то, а как само это что-то, то есть как объект, отличный от мышления о нем. Из этого наивного онтологизма с неумолимой необходимостью следует, что онтологизирующий мыслитель мыслит себя как завершение одной действительности или как начало другой (обычно тоже последней). [13] сюжетов". Понятие первичной этимологии в отношении данного слова так же бессмысленно, как понятие "последнего" (в смысле диахронии) значения этого слова.] Этот феномен я бы предложил условно назвать в неотрефлексированном мышлении. "Финализируя", мыслитель тем самым уже постулировал "предшествующее" мышление об объекте как объект второго рода, так сказать, и этим утвердил себя существующим в "реальности" будущего, для которого первый объект отрицается. Философия сознания, как я ее себе представляю здесь и сейчас, - это гораздо больше о философе, чем о философии (включая его собственную). Более того, это гораздо больше о "здесь", чем о "сейчас", поскольку "здесь" означает буквально . Последнее же непредставимо без конкретного философствующего по определению. В то время как философия, в отличие от философствования, может быть мыслима в ее безличных или даже безымянных результатах, могущих в виде идей, понятий и формулировок найти себе место в других контекстах (как исторически, так и синхронно). Можно даже сказать, что понятие "контекста" в данном (то есть моем) случае философствования "вбирает" в себя время "сейчас", ибо как строго понятие, оно является пространственным по преимуществу. В этом смысле можно сказать, что "философия" всегда принадлежит "истории", а "философствование" - контексту. "Здесь" философствование предполагает один момент, чрезвычайно важный метатеоретически: оно четко устанавливает границу между ситуацией философствующего и местом (или местами), где этого философствования не происходит. Иначе говоря, между сферой, покрываемой, так сказать, прагматикой философии сознания, и сферой, куда она выносится в виде своих конечных результатов и формулировок. Последнюю можно условно и только в этом смысле обозначить как "мир", "история" или "культура". Неотрефлексированное мышление нормального современного философа стремится (от Лукача и Маркузе до Франкфуртской школы и от Кожева до позднего экзистенциализма) к автоматическому перенесению этих результатов и формулировок в мир не-философствования в порядке отсылки применения или практики . "Применение" - это вторая иллюзия неотрефлексиро-ванного мышления. Метатеория сознания предполагает, что результаты и формулировки философии сознания должны возвращаться из "мира", "истории" и т. д. для последующего рефлексирования философствующего над своим мышлением о них как о фактах сознания. Готовя к печати второе издание книги "Символ и сознание" (фактически третье, если считать первым его начальный "беседный" вариант, опубликованный покойным Ю. М. Лотманом в Тарту), я понимал, что возвращения к прошлому не произойдет. Ни в том, что окружало эту книгу, ни в самой книге. Время изменяет тексты. Традиционные культуры сознательно или бессознательно (чаще первое) борются со временем за тексты, чтобы оно их не изменяло. Одним из основных методов этой борьбы было включение времени в текст, который тем самым становился существования времени как своего внутреннего объекта (содержания?). Тогда это издание будет попыткой, опытом участия в борьбе за текст, как за только в нем. А сейчас, после смерти Мераба Мамардашвили, уже совсем личное, почти мое. Я бесконечно благодарен Юрию Сенокосову за все, что он сделал для Мераба и меня, за его неустанное благородное усилие и воинское упорство в доведении начатого до конца.
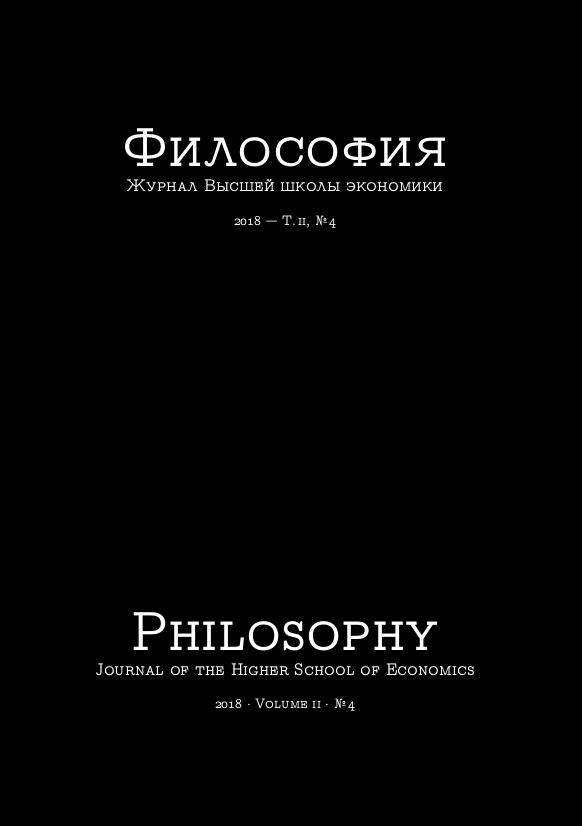
Предлагаемый вашему вниманию номер нетипичен. Он выбивается из привычного ландшафта современных философских дискуссий, где оазисы живых высказываний объяты пустынями бессодержательных пересказов, а цветущие долины респектабельных школ разделены горными хребтами концептуальных и методологических несоизмеримостей. Авторы данного номера говорят на разных философских языках, используют различную понятийную оптику. Но объединяет их то, что они пытаются вернуть философскому вопрошанию личностную глубину и осмеливаются заново поставить вопросы, на которые, казалось бы, уже есть готовые ответы.
Своеобразным контрапунктом к теме рождения выступает феноменология смерти, анализируемая в статье Ильи Павлова. Автор показывает, как трансформируется хайдеггеровская феноменология смерти в работах В. В. Бибихина благодаря использованию иной онтологии времени. Смерть для Бибихина феноменологически сближается с амеханией, ограничением человеческой инициативы.
Читайте также:

