Шаламов о солженицыне кратко
Обновлено: 07.07.2024
Я не занимался вопросом отношений между двумя писателями-лагерниками Солженицыным и Шаламовым. И не считаю себя специалистом по данном вопросу. Хотя и интересуюсь. Поэтому могу говорить только о собственных впечатлениях. А они таковы:
1)Мои ощущения от их прозы довольно противоречивы. Но первое впечатление от чтения было очень разным. Солженицын не умеет писать. Стиля нет. Текст не выстрадан, но вымучен. Может, даже замучен. Хотя его приёмчик с заменой букв при мате (смефуёчки и пр.) мне понравился. Но на таком литература не держится. И ещё открытие меня ожидало при чтении "Одного дня Ивана Денисовича": описание лагерного быта до боли совпало с тем, что я пережил в армии.
Ещё хуже обстояло дело с "Архипелагом". И чем больше живу, тем хуже к нему отношение. Так смешать правду с ложью мог только большой лжец. Но в литературе это свойство великим не делает.
Впечатление от Шаламова было другим. Его рассказы меня поразили своей проникновенной обречённостью. И, не удивительно, что Солженицын с Шаламовым не нашли общий язык. Впрочем под это отношение было заложено мировоззрение. И, хотя мне не совсем понятны представления Шаламова о революции и её совершении, с тем, что он думает о Солженицыне, пожалуй, соглашусь.
Думаю, что со временем Солженицын будет восприниматься писателем с очень большими оговорками. А отношение к его вкладу в русскую культуру будет существенно меняться в худшую сторону.
Впрочем, лучше посмотрим, как их отношения выстраивались в контексте истории.
Посмотрим у maysuryan в Солженицын умер. Для литературы

Две карикатуры из советской печати 1974 года в связи с высылкой А. И. Солженицына
Ещё: "несмотря на весь колымский опыт, на душе Варлама остался налёт сочувственника революции и 20-х годов. Он и об эсерах говорил с сочувственным сожалением, что, мол, они слишком много сил потратили на расшатывание трона, и оттого после Февраля — у них не осталось сил повести Россию за собой".
Но вот парадокс — по нынешним временам обвинения Солженицына звучат скорее комплиментами. Да, Шаламов всю свою сознательную жизнь был нескрываемым "сочувственником революции и 20-х годов". О 20-х годах он написал яркий и восторженный мемуарный очерк, опубликованный в 1987 году "Юностью". Шаламов писал: "Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодёжь. Именно молодежь была впервые призвана судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги — всемирный опыт человечества. Конец 24 года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что НЭП никого не смутит, никого не остановит. Ещё раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить ещё раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге. Завтра - мировая революция — в этом были убеждены все".

Москва, 1974 год. Возле плаката Бориса Ефимова, посвящённого высылке Солженицына за границу

Заметки из советской печати 1974 года
Шаламова покоряла атмосфера всеобщего равенства и духовной свободы, рождённая революцией: "В те времена попасть к наркомам было просто. Любая ткачиха трёхгорки могла выйти на трибуну и сказать секретарю ячейки: "Что-то ты плохо объясняешь про червонец. Звони-ка в правительство, пусть нарком приезжает". И нарком приезжал и рассказывал вот так-то и так-то. И ткачиха говорила: "То-то. Теперь я всё поняла".

Варлам Шаламов
Солженицын: "Та политическая страсть, с которой он когда-то в молодости поддержал оппозицию Троцкого, — видно, не забита и восемнадцатью годами лагерей".
Действительно, впервые Шаламов был арестован в 1929 году именно как участник левой, троцкистской оппозиции. Он попал в засаду на подпольной типографии троцкистов. Хоть Шаламов и был беспартийным, но его "троцкизм" вовсе не был каким-то поверхностным и случайным "налётом", как пренебрежительно выражается Солженицын. Шаламов тогда, как видно по его текстам, разделял все основные положения левой оппозиции: например, он положительно оценивал "левый поворот" Кремля 1929 года против Бухарина и "правых", только сомневался в прочности и долговременности этой линии.
И в 50-е годы Шаламов, как следует из его переписки, сочувственно отнёсся к факту обращения жены Льва Троцкого Натальи Седовой к ХХ съезду КПСС с требованием о реабилитации мужа. (Кстати, и в 60-е, 70-е годы Шаламов оставался горячим поклонником революционеров — уже нового поколения, таких, как Че Гевара. Хранительница литературного наследия Шаламова Ирина Сиротинская: "Часами рассказывал он мне о Че Геваре так, что и сейчас я ощущаю сырость сельвы и вижу человека, фанатично продирающегося через неё").
Но не одни только троцкисты, а все революционеры 20-х годов вызывали у Варлама Тихоновича одинаково уважительное отношение. И в этом он тоже — антипод Солженицына.
И. Сиротинская вспоминала: "Немного я могу перечислить имён, которые он всегда, всегда упоминал с глубоким уважением. Александр Георгиевич Андреев — первое из этих имен, политкаторжанин, эсер, с которым он встретился в 1937 году в Бутырской тюрьме. И героя "Колымских рассказов" в его честь он называет Андреевым. Свет славы и подвига народовольцев был на этом имени, свет великой жертвы — всей жизни за идею, за свободу, за своё дело".
Столь же сочувственно, как об эсерах, левых эсерах, большевиках (Ленине, Троцком, Луначарском, Раскольникове. ), Шаламов отзывался и об "апостолах анархизма". Он не без удовлетворения отмечал, что ещё в 1921 году над московским "Домом анархии" открыто развевался чёрный флаг. Даже обновленцы 20-х годов — церковные революционеры, противники патриарха Тихона, заслужили доброе слово от Шаламова. Впрочем, это и неудивительно, потому что обновленцам сочувствовал отец Варлама Тихоновича, сам бывший священником.
В 20-е годы Тихон Николаевич потерял зрение и уже не мог служить в храме, но вместе с сыном-поводырём исправно посещал все жаркие публичные диспуты между руководителями священников-обновленцев и вождями РКП(б). В том числе и тот знаменитый поединок в Политехническом музее (о котором вспоминал Шаламов) между главой обновленцев митрополитом Введенским и наркомом просвещения Анатолием Луначарским. Где Введенский, возражая красному наркому по поводу происхождения человека от обезьяны, обронил свою знаменитую шутку:
— Ну, каждому его родственники лучше известны.
Шаламов считал, что обновленчество "погибло из-за своего донкихотства. У обновленцев было запрещено брать плату за требы — это было одним из основных принципов обновленчества. Обновленческие священники были обречены на нищету с самого начала, и тихоновцы и сергиевцы как раз брали плату — на том стояли и быстро разбогатели".
Солженицын мимоходом бросает Шаламову и упрёк в атеизме. А в дневниковых записях Шаламова мы находим описание такого показательного разговора между ними в начале 60-х годов, когда отношения между ними ещё не были безвозвратно разорваны:
"— Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчёт (этого), поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмёт ни одного переводного рассказа, где герой — атеист, или просто скептик, или сомневающийся.
— А Джефферсон, автор Декларации?
— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, — мягко шелестел голос, — в Америку посылать этого не надо, но не только. Вот я хотел показать в "Новом мире" ваши "Очерки преступного мира". Там сказано — что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране — Александр Трифонович [Твардовский] не любит слова "кулак". Поэтому я всё, всё, что напоминает о кулаках, вычеркнул из ваших рукописей, Варлам Тихонович, для пользы дела.

Солженицын у новой советской машины

Прибытие пророка на Запад
Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.
— Я даже удивлён, как это вы. И не верить в Бога!
— У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.
— Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.
— Тем более.
— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, всё равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе."
Шаламов: "Я сказал. что за границу я не дам ничего — это не мои пути. какой я есть, каким пробыл в лагере".
Ирина Сиротинская: "У В. Т. оставалось чувство тягостного разочарования от этих бесед: "Это делец. Мне он советует — без религии на Западе не пойдёт. " "Варлам Тихонович не раз рассказывал мне об этой беседе. Меня ещё тогда поразил парадокс: Шаламов, неверующий, оскорблён столь практическим использованием религии. Религию он чтил как самый совершенный нравственный пример. А Солженицын. "
Позднее, уже после открытого разрыва отношений, Шаламов писал Солженицыну: "И ещё одна претензия есть к Вам, как представителю "прогрессивного человечества", от имени которого Вы так денно и нощно кричите о религии громко: "Я — верю в Бога! Я — религиозный человек!" Это просто бессовестно. Как-нибудь тише всё это надо Вам. Я, разумеется, Вас не учу, мне кажется, что Вы так громко кричите о религии, что от этого будет "внимание" — Вам и выйдет у Вас заработанный результат".
Впрочем, это расхождение было гораздо шире и глубже, чем только отношение к религии, оно имело и литературное измерение. Шаламов с крайним неприятием относился к толстовской традиции проповедничества в литературе. Он считал, что Лев Толстой увёл русскую прозу с её истинного пути, проложенного Пушкиным и Гоголем. "Искусство лишено права на проповедь, — считал Шаламов. — Учить людей — это оскорбление. Каждый м. к начинает изображать из себя учителя жизни".
Звучит резко и, возможно, спорно, но в отношении Солженицына, надо признать, не совсем уж безосновательно.
Шаламов: "Солженицын — весь в литературных мотивах классики второй половины 19 века, писателей, растоптавших пушкинское знамя. Все, кто следует толстовским заветам, — обманщики. Уже произнося первое слово, стали обманщиками. Дальше их слушать не надо. Такие учителя, поэты, пророки, беллетристы могут принести только вред. "
Отсюда вытекает одно "небольшое" различие между Шаламовым и Солженицыным, если рассматривать их прозу в качестве исторического свидетельства. Шаламов писал правду, — как он её субъективно видел и чувствовал, в том числе о тюрьмах и лагерях. Солженицын же ловко отражал нужную Западу "политическую линию" (тотального отрицания революции), умело замалчивая одни факты и выпячивая другие.
Например, Солженицын яростно негодует по поводу "процесса эсеров" 1922 года, по итогам которого не был казнён ни один из подсудимых. Но где же его праведное негодование по поводу военно-полевой юстиции Столыпина, которая тех же самых эсеров сотнями вешала и ставила к стенке?

Варлам Шаламов после первого ареста в 1929 году
Солженицын изображал ГУЛаг как жизнь рядом с жизнью, как общую модель советской действительности. Мир Шаламова – подземный ад, царство мёртвых, жизнь после жизни.
Ещё одна позиция расхождения связана с вопросом о дружбе и доверии, доброте. Шаламов утверждал, что в страшных колымских лагерях люди настолько были замучены, что ни о каких дружеских чувствах говорить не приходилось.
Варлам Шаламов о Солженицыне (из записных книжек):
***
Через Храбровицкого сообщил Солженицыну, что я не разрешаю использовать ни один факт из моих работ для его работ. Солженицын — неподходящий человек для этого.

***
***
Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Солженицын — писатель масштаба Писаржевского, уровень направления таланта примерно один.
***
Восемнадцатого декабря умер Твардовский. При слухах о его инфаркте думал, что Твардовский применил точно солженицынский приём, слухи о собственном раке, но оказалось, что он действительно умер. Сталинист чистой воды, которого сломал Хрущев.
***
На чем держится такой авантюрист? На переводе! На полной невозможности оценить за границами родного языка те тонкости художественной ткани (Гоголь, Зощенко) — навсегда потерянной для зарубежных читателей. Толстой и Достоевский стали известны за границей только потому, что нашли переводчиков хороших. О стихах и говорить нечего. Поэзия непереводима.
А сам Солженицын, при свойственной графоманам амбиции и вере в собственную звезду, наверно, считает совершенно искренне — как всякий графоман, что через пять, десять, тридцать, сто лет наступит время, когда его стихи под каким-то тысячным лучом прочтут справа налево и сверху вниз и откроется их тайна. Ведь они так легко писались, так легко шли с пера, подождем ещё тысячу лет.
– Ну что же, – спросил я Солженицына в Солотче, – показывали Вы всё это Твардовскому, Вашему шефу? Твардовский, каким бы архаическим пером ни пользовался, – поэт, и согрешить тут не может. – Показывал. – Ну, что он сказал? – Что этого пока показывать не надо.

Варлам Шаламов в свидетельствах современников. Материалы к биографии. 2012 г. 435 с.
Варлам Шаламов о Солженицыне
(из записных книжек)
Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын.
Через Храбровицкого сообщил Солженицыну, что я не разрешаю использовать ни один факт из моих работ для его работ. Солженицын — неподходящий человек для этого.
Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Солженицын — писатель масштаба Писаржевского, уровень направления таланта примерно один.
Восемнадцатого декабря умер Твардовский. При слухах о его инфаркте думал, что Твардовский применил точно солженицынский прием, слухи о собственном раке, но оказалось, что он действительно умер /. / Сталинист чистой воды, которого сломал Хрущев.
В одно из своих /нрзб./ чтений в заключение Солженицын коснулся и моих рассказов. — Колымские рассказы. Да, читал. Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым. Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма.
На чем держится такой авантюрист? На переводе! На полной невозможности оценить за границами родного языка те тонкости художественной ткани (Гоголь, Зощенко) — навсегда потерянной для зарубежных читателей. Толстой и Достоевский стали известны за границей только потому, что нашли переводчиков хороших. О стихах и говорить нечего. Поэзия непереводима.
После бесед многочисленных с С/олженицыным/ чувствую себя обокраденным, а не обогащенным.
Мне было 14 лет и я за двое суток прочел АГ.
Сегодня тоже считаю себя обкраденным.
Что скажет историк? не знаю. Но читателю все это переварить трудно очень.
Я просмотрел произведения по литературе Нобелевских лауреатов. Выбор идет так: политика или маленькая страна с интересным автором, так. чтобы всем что-то дать. Россия. Тут политика. Хотя Шолохов, Бунин, Пастернак (кто там еще. ) - вполне заслуженно. Но "Доктор Живаго"? Это не шедевр. Есть у Пастернака шедевры. Не зря дали.
И Горби - политика.
В заявлении Нобелевского комитета 15 октября 1990 года говорится: «Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 1990 год Президенту Советского Союза Михаилу Сергеевичу Горбачеву за его ведущую роль в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества.
После бесед многочисленных с С/олженицыным/ чувствую себя обокраденным, а не обогащенным.
Соврал автор сайта? Зачем? Пишет Шаламов! Его стиль. Или подделка?
— Ну что же, — спросил я Солженицына в Солотче, — показывали Вы все это Твардовскому, Вашему шефу? Твардовский, каким бы архаическим пером ни пользовался, — поэт и согрешить тут не может. — Показывал. — Ну, что он сказал? — Что этого пока показывать не надо.
После бесед многочисленных с С/олженицыным/ чувствую себя обокраденным, а не обогащенным.
По материалам журнала "Знамя" (1995, № 6)
— Ну что же, — спросил я Солженицына в Солотче, — показывали Вы все это Твардовскому, Вашему шефу? Твардовский, каким бы архаическим пером ни пользовался, — поэт и согрешить тут не может. — Показывал. — Ну, что он сказал? — Что этого пока показывать не надо.
После бесед многочисленных с С/олженицыным/ чувствую себя обокраденным, а не обогащенным.
По материалам журнала "Знамя" (1995, № 6)


Александр Солженицын, опубликовавший в 1962 году в журнале "Новый мир" повесть "Один день Ивана Денисовича", получил признание в своей родной стране и за рубежом за честный рассказ о жертвах сталинских репрессий. Уже через 8 лет ему вручат Нобелевскую премию по литературе. Однако его талант не будет признан еще одним узником ГУЛАГа - автором "Колымских рассказов" Варламом Шаламовым. Давайте разбираться почему.
Знакомство писателей

Свою повесть Солженицын напечатал во время оттепели 60-х, что сыграло эффект разорвавшейся бомбы. В "Новом мире" пытался напечатать первые из своих "Колымских рассказов" и Варлам Шаламов. Пока он готовил материал, познакомился с произведением Солженицына, после чего вступил с коллегой в переписку. Он высоко оценил писательскую смелость и желание рассказать о жизни в лагерях, но при этом выразил удивление:
Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок посидеть там в свое время.
Александр Солженицын, попавший в лагеря в конце войны, провел там 7 с половиной лет. При этом он сменил много учреждений: от Нового Иерусалима до Степлага, где его пытались завербовать под псевдонимом Ветров, что было описано писателем в "Архипелаге ГУЛАГе". Шаламов же, репрессированный в 1937 году, попал на Колыму, где провел 16 лет. Видимо, у него был более суровый опыт лагерной жизни, поэтому картина, представленная Солженицыным, казалась ему "подсахаренной".
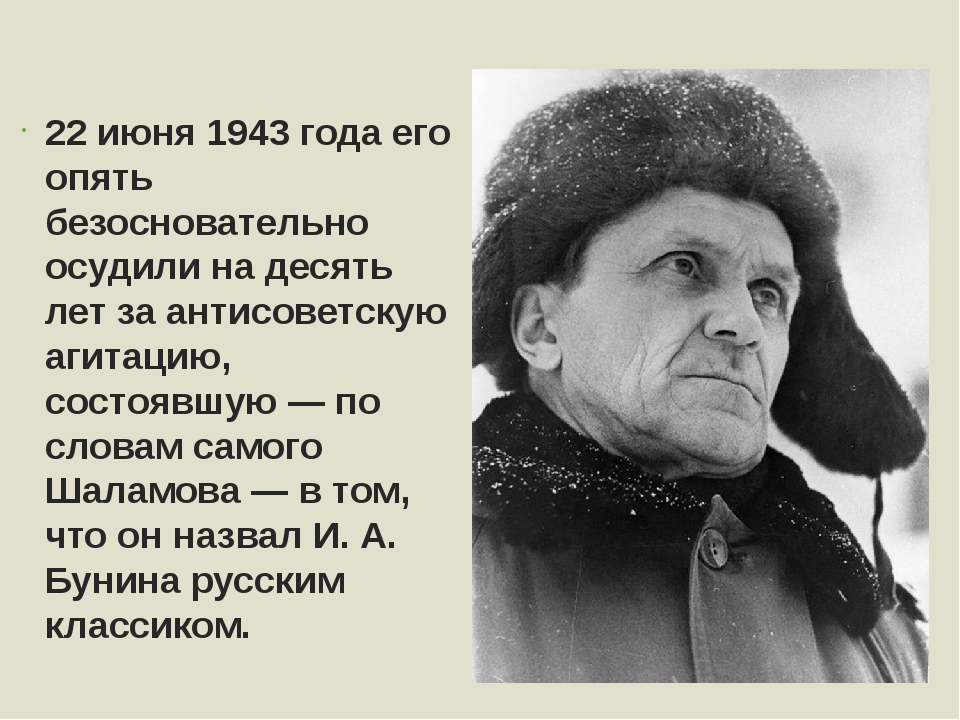
В 1963 году Александр Исаевич пригласил Шаламова к себе в Солотчу. Варлам Тихонович планировал провести там неделю, но уехал через два дня. И когда Солженицын предложил ему поработать вместе над "Архипелагом ГУЛАГом", ответил отказом.
Не принял диссидентства
В 1974-м Солженицына выслали из страны. Его произведения активно печатались за рубежом. Книги о ГУЛАГе были опубликованы в 28 странах, в том числе в ФРГ и США. Шаламов же, не успевший издать "Колымские рассказы" в период оттепели 60-х, так и не смог увидеть их напечатанными при жизни. Он публично открестился от возможности публиковать свои произведения за рубежом. Его рассказы переписывались от руки и издавались самиздатом. Несмотря на то что Варлам Тихонович пережил репрессии, он категорически не хотел становиться диссидентом.
Солженицына он считал дельцом от литературы, которому свойственны фальшь и неискренность. Писатель писал тяжелым слогом, что особенно ярко можно увидеть в "Красном колесе". Но его издавали за рубежом в переводе, поэтому литературный язык не был главным в оценке его творчества. Более важной для Запада была тематика его произведений. Шаламов не мог понять, как можно вручить премию за литературу человеку, который до награждения написал первое произведение всего лишь 8 лет назад. Это был прецедент.
О зависти
Лидия Чуковская осудила Шаламова, нелицеприятно отзывающегося о Солженицыне. По ее мнению, речь шла о зависти. Шаламов не мог простить, что Александр Исаевич не способствовал продвижению и изданию "Колымских рассказов". Кстати, о них она высказалась нелицеприятно:
Но если говорить о зависти, то она была взаимной. Солженицына за издание произведений за рубежом еще в 1969 году отчислили из Союза писателей СССР, а Шаламова в 1973-м приняли в число членов, выделили квартиру.
Можно говорить как о разном лагерном опыте писателей, так и нервной болезни Шаламова, которая развилась после лагерей. Там же Шаламов оставил и здоровье, поэтому рано ушел из жизни - в январе 1982 года. Слава придет к писателю уже после смерти, когда наконец-то увидят свет его "Колымские рассказы".

Знал ли Шаламов о Ветрове
Сегодня активно муссируются слухи, что Солженицын в лагерях был осведомителем. О попытке вербовки сам писатель рассказал в одном из своих произведений. Ему был дан псевдоним Ветров, однако стукачеством Солженицын якобы не занимался, отвергнув предложение оперативника. Но некто Франк Арнау ссылается на найденный автограф Ветрова на доносе от 20 января 1952 года. Совпадение фамилий кажется невероятным.
Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что после отказа в стукачестве Солженицына назначают бригадиром, а потом и вовсе переводят на должность хлебореза, которая в условиях лагерей была по-настоящему блатной. Объективности ради нужно признать, что официальных доказательств вербовки Солженицына нет. Однако нелюбовь Шаламова к своему "коллеге" по ГУЛАГу могла бы в этом случае быть более понятной.
В 1994 году Александр Исаевич вернется на Родину, причем вернется триумфально. Однако он продолжит критиковать страну и общество, в котором жил.
Читайте также:

