Шопенгауэр как воспитатель кратко
Обновлено: 05.07.2024
Начинается эссе с того, что каждый человек уникален, оригинален, самобытен, каждый человек в силах сам, ни за кем не следуя, пересекать реку жизни, находить внутри себя ответы и направления.
За этим следует другая мысль: все люди должны стремиться стать философами или художниками. Философ, художник – идеал человеческого существования. А для того, чтобы научиться следовать путям истины и понимать, что значит быть настоящим философом, человеку нужны хорошие воспитатели, учителя.
Дальше мысль сбивается на то, что не было лучшего философа в мировой культуре, чем Шопенгауэр. Ницше анализирует путь создания философского учения Шопенгауэра, выделяет пять опасностей, которые могут сбить философа с утверждения правды, и объясняет, как с этими опасностями справлялся гениальный философ. Для Ницше фигура Шопенгауэра – то же, что образ Иисуса Христа для христиан. Все должны стремиться повторить жизнь Шопенгауэра, нет ничего справедливее и прекраснее этого.
Ближе к концу читатель сталкивается с чем-то совсем неожиданным: избранных гениев не может быть много, но, при этом, один гениальный философ или художник стоит всего человечества. Люди должны создавать почву для взращивания единичных гениев, становиться посредственными деятелями в сфере философии и искусства ради того, чтобы питать жизни своих будущих духовных вождей.
Эссе содержит много интересных и актуальных мыслей о гуманитарном образовании и роли государства в сфере образования, о функции университетов и профессоров в жизни страны.
Но, пока я читала эссе, мне всё не давало покою одно обстоятельство.
В сущности, каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное, и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно-пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность…
Куда забилась эта удивительная мысль и для чего она в самом начале вообще появилась?
Труд Фридриха Ницше (а кого же ещё?) посвящённый сверх человеку, я думаю, а кому же ещё? Здесь он рассуждает о том, что вся масса природной силы - слепа и создаёт картину, просто размазывая краски по холсту - очевидно получается нелепый сюжет из нагромождения красок, но наверное в каждой такой нелепице есть какая-та малая часть, которая привлекает собой - в ней есть пятно философа. И философ есть тот, кто смотрит на эту созданную возню и осознает шизофринический сюжет полотна. Другие краски осознают свою нелепость и уродство, они лишь сумбур на холсте, к тому же они с завистью смотрят на эту крошечную красивую часть картины. Ницше же предлагает этим серым краскам жизни - серым людям, принять своё естество и признать высокую красоту отдельного момента - философа. И ради него. Ради него что? Менять этот холст. Возможно самим становится малыми художниками. Здесь интересный момент - картина в такой структуре мысли начинает рисовать саму себя. Если серые краски начинают отдавать свои цвета этому одному оазису среди пустыни, то этот оазис разрастётся - гений будет взращен на усладу мира.
Природа же сегодня - нелепый творец, он создаёт возню, с мелким вкроплением прекрасного. В парадигме мышления Ницше картина сама изменяет себя, показывая автору то, как он бездарен.
Но что станет, если картина сама себя перерисует и отдаст всю свою потенцию единственной части, что имеет красоту? Гений будет взращен, может много гениев будет взращено толпой. Они то, эти гении дадут абсолют бытия - правильного бытия для человека, меру становления сверх человеком, натянут этот канат по которому будут идти толпы людей. Никто не знает, что тогда будет ждать нас. Но пока что, гении прошлого мира слабо кричали, слабо заявили о себе как о пророках - они были лишь канатом для сверхчеловека, поэтому мало кто услышал их крик - он был слаб, это был крик не Льва. Сегодня гений стал ещё более одиноким, чем был, никто не слышит его отчаянных криков, ведь гений молчит, мир опасен, ещё более опасен, чем был. Толпа стала ходячими людьми в чудовищно большей степени. Само бытие зарывает крик гения - бытие безмолвно в веке нашем. Надеяться лишь стоит, что гений когда-нибудь крикнет так сильно, что весь мир услышит и проснётся, гений будет возведён на пъедестал.
Фридрих Ницше
Каждая юная душа слышит этот призыв днем и ночью и содрогается, ибо она чует предназначенную ей от века меру счастья, когда думает о своем подлинном освобождении, — того счастья, достигнуть которого никто не может ей помочь, пока она окована цепями предвзятых мнений и страха. И сколь безутешной и бессмысленной может стать жизнь без этого освобождения! Нет более пустынного и отвратительного создания в природе, чем человек, который сошел с пути своего гения и косится направо и налево, назад и во все стороны. В сущности, такого человека не стоит даже трогать, ибо он есть одна оболочка без ядра, сгнившее, раскрашенное, надутое платье, разряженное привидение, которое не может внушить даже страха, а тем более сострадания. И если о ленивом справедливо говорят, что он убивает время, то относительно эпохи, которая ищет своего спасения в общественных мнениях, т. е. в частной лености, нужно серьезно позаботиться, чтобы такое время действительно было убито: я хочу сказать, чтобы оно было вычеркнуто из истории истинного освобождения жизни. Как велико будет, вероятно, отвращение позднейших поколений при изучении наследия того периода, в котором господствовали не живые люди, а общественно мнящие подобия людей! Поэтому, быть может, какому-нибудь отдаленному потомству наша эпоха будет казаться самым темным и неизвестным, ибо самым нечеловеческим отделом истории. Я иду по новым улицам наших городов и думаю, как через столетие ничего не останется от всех этих гнусных домов, построенных поколением, которое имело общественные мнения, и как тогда будут, конечно, опрокинуты также и мнения этих домостроителей. Напротив, как много надежд могут питать все те, кто не чувствует себя гражданами этого времени; ибо будь они таковыми, они также служили бы тому, чтобы убить свое время и погибнуть вместе с ним, — тогда как они хотят, наоборот, пробудить время к жизни, чтобы самим продолжать жить в этой жизни.
Конечно, есть и другие средства найти себя, — прийти в себя из того оглушения, в котором обычно живешь, точно в темной туче; но я не знаю лучшего средства, чем оглянуться на своих воспитателей и руководителей. И я хочу помянуть сегодня одного наставника и дрессировщика, которым я могу похвалиться, — Артура Шопенгауэра — чтобы позднее помянуть и других.
Найти объяснение этой дряблости и низкого уровня всех духовных сил трудно и сложно; но кто учтет влияние побеждающего христианства на нравственность нашего старого мира, тот не упустит из виду также и обратного влияния современного христианства, т. е. его все более вероятной судьбы в наше время. Христианство настолько превзошло высотой своего идеала античные моральные системы и повсеместно господствующую в них естественность, что у нас притупилось чувство к этой естественности и появилось отвращение к ней; затем, однако, когда лучшее и высшее хотя и было еще известно, но уже перестало быть достижимым, мы уже не могли вернуться, несмотря на все желание, к хорошему и высокому, т. е. к античной добродетели. В этом шатании между христианским и античным началами, между оробевшей или лживой нравственностью и столь же трусливым и несвободным стремлением к античности живет современный человек и чувствует себя при этом плохо; унаследованная боязнь естественного и, с другой стороны, возродившаяся привлекательность этой естественности, жажда найти где-нибудь опору, бессилие сознания, которое постоянно колеблется между хорошим и лучшим, — все это создает беспокойство и смутность в современной душе, осуждающее ее на бесплодное и безрадостное бытие. Никогда нравственные воспитатели не были так нужны, как теперь, и никогда не было так маловероятно найти их; в эпохи, когда врачи нужнее всего, — при больших эпидемиях — они сами всегда подвергаются наибольшей опасности. Ибо где же врачи современного человечества, которые сами стояли бы так прочно и здорово на своих ногах, чтобы быть в состоянии еще поддерживать и вести других? На лучших личностях нашего времени лежит какая-то темнота и придавленность, вечное недовольство борьбой между лицемерием и честностью, которая разыгрывается в их груди, беспокойное недоверие к самим себе, — и все это делает их совершенно неспособными быть вожаками и воспитателями других.
Итак, я предавался действительно фантастическим надеждам, когда мечтал найти, в качестве воспитателя, истинного философа, который освободил бы меня от несовершенства моего времени и снова научил быть простым и честным в мышлении и жизни, т. е. быть несвоевременным в глубочайшем смысле этого слова; ибо люди стали теперь столь многосторонними и сложными, что они должны становиться нечестными, если хотят вообще говорить, утверждать что-либо и поступать согласно своим утверждениям.
Одержимый такими нуждами, потребностями и желаниями, я познакомился с Шопенгауэром.
Я изображаю здесь только первое, как бы физиологическое впечатление, которое произвел на меня Шопенгауэр. то волшебное излияние сокровеннейшей силы одного творения природы на другое, которое совершается при первом и самом слабом прикосновении; и когда я задним числом анализирую это впечатление, я нахожу в нем соединение трех элементов: впечатления его честности, его веселости и его постоянства. Он честен, потому что говорит и пишет с самим собой и для себя самого, он весел, потому что мыслью одолел тягчайшее, и постоянен, потому что должен быть таковым. Его сила, подобно пламени при затишьи, поднимается легко и прямо вверх, без колебаний, без дрожи, без волнения. При всех обстоятельствах он находит свой путь, так что мы даже не замечаем, что он искал его; он подвигается так быстро и уверенно, так неизбежно, как будто повинуется закону тяготения. И кто раз почувствовал, что значит среди нашего современного гибридного человечества найти однажды настоящее, определенно выраженное, стоящее и движущееся на собственных ногах, нестесненное и невзнузданное естественное существо, тот поймет мое счастье и мое изумление, когда я нашел Шопенгауэра. Я почуял, что нашел в нем того воспитателя и философа, которого я так долго искал. Правда, я его встретил лишь в книге; и это было большим недостатком. Тем более силился я смотреть сквозь книгу и представить себе живого человека, великое завещание которого я читал и который обещал сделать своими наследниками лишь тех, кто захотят и смогут быть не просто его читателями, но его сыновьями и питомцами.
В ответ на такие возражения я готов признать, что наша работа здесь едва лишь началась и что на основании собственного опыта я теперь вижу и знаю определенно лишь одно: что возможно, исходя от этого идеального образа, надеть на себя и других цепь выполнимых обязанностей и что некоторые из нас уже чувствуют давление этой цепи. Но чтобы без колебаний высказать формулу, которой я хотел бы охватить этот новый круг обязанностей, я нуждаюсь в следующих предварительных соображениях.
Более глубокие люди во все времена испытывали сострадание к животным именно потому, что последние страдают от жизни и все же не имеют силы обратить жало страдания против себя самих и истолковать метафизически свое бытие; вид бессмысленного страдания возмущает нас до глубины души. Поэтому не однажды возникало предположение, что в телах этих животных помещаются души отягощенных виною людей и что это, на первый взгляд, возмутительно бессмысленное страдание, полно высшего смысла и значения перед лицом вечной справедливости – именно есть наказание и покаяние. Поистине, тяжкая кара – жить в образе животного, томясь от голода и вожделений и не имея ни малейшего понимания этой жизни, и нельзя придумать судьбы более тяжелой, чем судьба хищного зверя, который гоним в пустыне мучительной нуждой, редко утоляет эти муки, да и то лишь так, что само удовлетворение становится страданием, достигаясь в раздирающей борьбе с другими зверями или выражаясь в отвратительной жадности и пресыщении. Быть так слепо и бешено привязанным к жизни без всякого высшего вознаграждения с ее стороны, не иметь даже и отдаленного знания о том, почему и за что терпишь это наказание, а, напротив, с ужасающей страстью бессмысленно жаждать его, как какого-то счастья – вот что значит быть животным; и если вся природа движется в сторону человека, то она дает этим понять, что человек нужен ей для ее спасения от проклятия животной жизни и что в нем, наконец, бытие находит себе такое отражение, в котором жизнь является уже не бессмысленной, а обнаруживает свою метафизическую значительность. Но рассудим поглубже: где кончается зверь и где начинается человек? Тот человек, который только и нужен природе? Пока кто-либо стремится к жизни как к какому-то счастью, он еще не поднял взора над горизонтом зверя, и вся разница лишь в том, что он более сознательно стремится к тому, чего зверь ищет слепым инстинктом. Но ведь так живем мы все значительную часть нашей жизни: мы не выходим обычно из животного состояния, мы сами – звери, осужденные, по-видимому, на бессмысленное страдание.
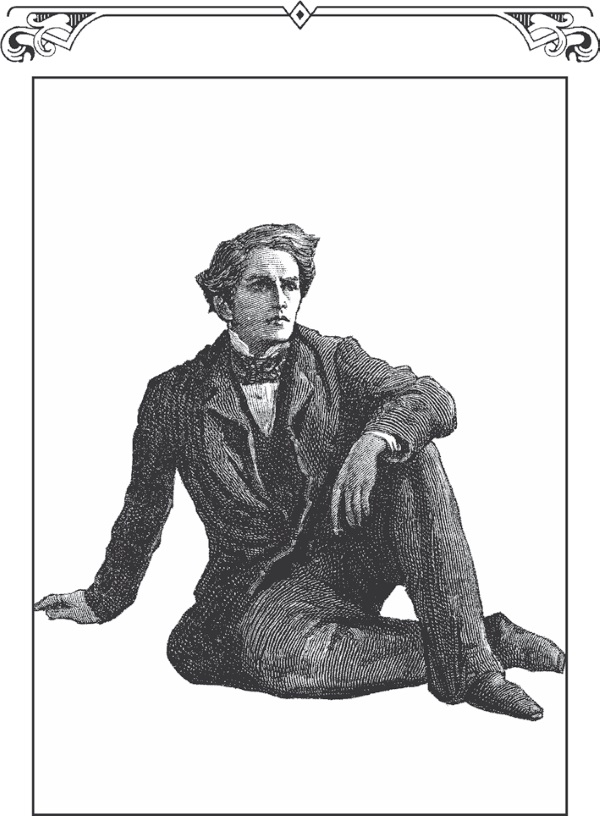
Но есть мгновения, когда мы понимаем это, тогда облака разрываются и мы видим, как, вместе со всей природой, нас влечет к человеку, т. е. к чему-то, что стоит высоко над нами. Содрогаясь, мы оглядываемся вокруг себя в этом внезапном свете и смотрим назад: мы видим, как бегут утонченные хищные звери и мы сами среди них. Чудовищная подвижность людей в великой земной пустыне, их созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и расхождение, их беспорядочная беготня, их взаимное подражание, их умение перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рев в победе – все это есть продолжение животного состояния; как будто человеку суждено сознательно регрессировать и обмануться в надежде на свои метафизические задатки – более того, как будто природа, так долго ждавшая человека и работавшая над ним, отшатывается теперь от него и готова вновь вернуться к бессознательности инстинкта. Ах, ей нужно познание, и она страшится того познания, в котором нуждается; и вот пламя, беспокойно и как бы пугаясь самого себя, колеблется во все стороны и охватывает тысячи вещей, прежде чем охватить то, ради чего вообще природа нуждается в познании. Мы все знаем в отдельные мгновения, что широчайшие планы нашей жизни создаются лишь для того, чтобы убежать от нашей истинной задачи, что мы охотно хотели бы куда-нибудь спрятать свою голову, где бы наша стоглазая совесть не могла нас поймать, что мы спешно дарим свое сердце государству, добыванию денег, общению с друзьями или науке, только чтобы не владеть им более, что мы даже отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, – потому что, нам кажется, нужнее всего не приходить в сознание. Все полны этой спешки, ибо каждый бежит от себя самого; и все робко скрывают эту спешку, ибо хотят казаться довольными и не показать своей нищеты более зорким наблюдателям; все испытывают потребность в новых звучных словесных погремушках, чтобы обвешать ими жизнь и тем придать ей что-то шумно-праздничное. Всякому известно то странное состояние, когда нас внезапно одолевают неприятные воспоминания и мы стараемся порывистыми жестами и звуками изгнать их из сознания; но по жестам и звукам обычной нашей жизни можно угадать, что мы все и постоянно находимся в подобном состоянии – в состоянии страха перед воспоминанием и самоуглублением. Что же так часто задевает нас, какая муха не дает нам спать? Вокруг нас бродят привидения, каждое мгновение жизни хочет нам что-то сказать, но мы не хотим слушать эти таинственные голоса. Мы боимся, когда мы одни и в тишине, что нам прошепчут что-то на ухо, и потому мы ненавидим тишину и оглушаем себя общением с людьми.
Повторяю, все это мы изредка понимаем и дивимся тогда всей нашей головокружительной спешке и боязни и всему состоянию нашей жизни, похожему на сон, когда мы боимся проснуться и грезим тем живее и беспокойнее, чем ближе мы к пробуждению. Но вместе с тем мы чувствуем, что мы слишком слабы, чтобы долго выносить такие мгновения глубочайшей сосредоточенности, и что мы – не те люди, к которым стремится вся природа как к своему спасению; достаточно уже, если нам вообще удается немного вынырнуть головой и заметить, в какой поток мы так глубоко погружены. Но даже вынырнуть и очнуться на мимолетное мгновение мы не можем собственными силами, нас должен поднять кто-нибудь – кто же именно?
Здесь достаточно муки, чтобы сделать такого неудачника завистливым и злобным, если бы он вообще мог стать завистливым и злобным; но вероятно он обратит наконец свою душу в другую сторону, чтобы она не пожирала самое себя в этом тщетном влечении, – и теперь он откроет новый круг обязанностей.
…Загнанная в угол своими собственными законами природа обратилась посредством извращения инстинкта к крайнему средству, к хитрости, она как бы применила искусственный способ, чтобы, как сказано выше, предотвратить большее из двух зол (…) она прибегает к дурному, чтобы избежать худшего: она ведет половое влечение по ложному пути, чтобы предотвратить его наиболее гибельные последствия.
Эту главу Шопенгауэр, человек, известный своим дурным характером, испорченным еще более долголетним непризнанием его в философских кругах, заканчивает так:
…Изложением этих парадоксальных мыслей я хотел оказать некоторое благодеяние профессорам философии, столь озадаченным всё большим распространением моей философии, которую они так тщательно скрывали, предоставив им возможность к клевете, будто я защищаю педерастию и призываю к ней.
Конечно, современный человек скорее улыбнется, чем вознегодует, ознакомившись с трактовкой вопроса Шопенгауэром, – и прежде всего потому, что факты, к которым он апеллирует, совсем не таковы. Но, как говорят философы, истина это не факт, истина это идеал – идеал не в смысле моральной цели, а как умопостигаемое строение основ, платоновский мир идей.
Мы намеренно уклонимся от вопроса о личных пристрастиях Шопенгауэра, которые и не должны интересовать в постановке метафизических проблем: метафизика прежде всего – выход за пределы эмпирики, независимо от эмпирического состава переживаний самого метафизика. Тем самым мы хотим сказать не только, что трактовка вопроса Шопенгауэром внеличностна (ошибочна она или нет), но и обладает неким метафизическим измерением, коли она на данный манер связывает обсуждаемую тему с основным мотивом его философии. И говорится это нами не в последнюю очередь затем, чтобы оспорить в существенном пункте понимание и оценку Шопенгауэра Шпенглером, – а эта тема первостепенно важна для дальнейших рассуждений.
Читайте также:

