Сообщение на тему арабская литература
Обновлено: 28.06.2024
Учебно-исследовательская работа по литературе Тема: Арабская поэзия. Застывшие песни кочевников.
Роль арабов в мировой цивилизации связана с возвышением и распространением ислама. Сведений о происходящем на Аравийском полуострове до этого у нас почти нет. Однако литература у арабов (по большей части поэзия) существовала еще до Мухаммеда (ок. 570–632.) Более всего она была распространена среди кочевников-скотоводов (бедуинов [1] [2] ). Бедуины выработали необычайно богатый и точный язык, и позднее главной целью арабских поэтов будет не донести оригинальную мысль читателю, а рассказать об обычном и обыденном как можно более красиво, детально и насыщенно. Задолго до прихода ислама бедуинские поэты довели до совершенства такие жанры литературных произведений, как сатирические, хвалебные произведения и элегии. Поэзия бедуинов, выросшая на почве устного народного творчества, еще далека от каких-либо стеснительных ограничений, жесткой эстетической нормативности — песня, как правило, импровизированная, льется свободно и раскованно. Но именно ей суждено было со временем стать каноном и нормой, иссушающими древо всякой поэзии. Начиная с VII — VIII веков вместе с арабами-завоевателями эта литература проникла в Египет и Сирию, Ирак и Среднюю Азию, распространилась на страны Магриба и завладела Испанией. Ее несли с собой и насаждали ревностные адепты повой религии — ислама. ( Хотя многие из арабских писателей и поэтов были христианами, основной темой все равно оставался Аллах.) Следы этих событий, разворачивавшихся на протяжении нескольких последующих столетий, читатель без труда обнаружит в содержании многих стихов. Высокого расцвета достигает арабоязычиая поэзия в VIII — XII веках, в которой появляется любовная лирика, когда наполняется и оплодотворяется культурными традициями исламизированных народов. Первым представителем нового направления был выходец из знатного иранского рода Башшар ибн Бурд.
С момента своего возникновения и вплоть до VIII — X веков хранителями и, пользуясь современной терминологией, пропагандистами этой поэзии были профессиональные декламаторы — рави. Разумеется, каждый из них привносил в произведения народного творчества что-то свое — свою окраску и свой комментарий. Только в семисотые годы появляются первые записи, частично дошедшие и до наших дней.
Роль Корана в развитии арабской литературы
Культ поэзии был настолько развит у арабов, что за несколько веков до Мухаммада у них существовали, литературные конгрессы, где собирались поэты со всех частей Аравии.
Структура арабской литературы .
Восхваление ( касд ) . Посвящена воспоминаниям о покинутом любимом крае, вдохновила поэтов на создание еще одного значительного направления — жанров оплакивания и осмеяния.
Самовосхваление ( фахр )
Не было ничего странного в том, что все поэты разрабатывали один и тот же сюжет. Сочинение касыд не становилось от этого скучной рутиной, напротив, оно превращалось в нечто вроде поэтического турнира, где каждый участник должен был проявить свой талант и оригинальность в строгих рамках схемы.
В XI—XII вв. появилась философская касыда. Обязательное упоминание в тексте имён, зачастую — событий и дат делает касыду важным историческим источником .
Касыда о мече
Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он - радость для смельчака.
Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.
А если захочешь ты распознать его настоящий цвет -
Волна переливов обманет глаза, как будто смеясь в ответ.
Он тонок и длинен, изящен и строг, он - гордость моих очей.
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей.
В воде закалялись его края и стали алмазно-тверды,
Но стойкой была середина меча - воздерживалась от воды.
Ремень, что его с той поры носил, - истерся, пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.
Так быстро он рубит, что не запятнать его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.
Считает излишними старец-меч пять ежедневных молитв,
Готов даже в храме он кровь пролить, жаждет великих битв.
В разгаре сражения этим мечом вражеских львов бодни -
Не меч отпрянет от их брони - сами отпрянут они.
О молниях в небе заставит забыть молния в длани моей,
И долго пропитанной кровью земле не нужно будет дождей…
О ты, вкруг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою,
Услада моя, мой весенний сад - тебе я хвалу пою!
Мой яростный блеск, когда ты блестишь, это - мои дела,
Мой радостный звон, когда ты звенишь, это - моя хвала.
Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.
Живой, я живые тела крушу, стальной, ты крушишь металл -
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!
1. Для благословенной долгой жизни прочитать 1001 раз.
2. Для удаления сложностей прочитать 71 раз.
3. При засухе прочитать 300 раз.
4. Для богатства и приобретения материальных благ прочитать 700 раз.
5. Кто желает иметь ребенка мужского пола — прочитать 116 раз.
6. Для легкого осуществления всех сложных планов — прочитать 771 раз
В фахре поэт воспевает свои подвиги или славные деяния своего племени, высмеивает врага, призывает соплеменников к битве. В фахре племенной герой как бы отождествляется со всем племенем, становится носителем его доблестей и идеалов, интересов и судьбы. С фахром тесно связана и генетически, и типологически другая самостоятельная часть касыды — мадх (панегирик), который позднее в поэзии зрелого арабо-мусульманского общества был широко распространен, он оттеснил на задний план, а иногда и вовсе вытеснил из касыды доисламские самовосхваления.
Васф
Особое место в кассыде занимают разнообразные изречения морального и общественного характера в виде одного или нескольких стихов. Хикма у древних арабов, подобно греческим гномам, была основным способом формулирования норм общественной морали. В некоторых хикмах доисламских поэтов звучали мотивы бренности бытия, скепсиса и разочарования, симптоматичные для кризисной поры ломки родо-племенных отношений. С радостно-языческими описаниями в касыдах некоторых поэтов (Имруулькайса и особенно Зухайра) часто соседствуют горестные ламентации о давно ушедших патриархальных временах единства племени, сменившихся всеобщим ожесточением и враждой. Этим же настроением — тоской по невозвратному прошлому проникнуты и интимно-лирические вступления. Уже в доисламской касыде обычно в виде нескольких стихов часто присутствует тема вина и застольных радостей, которая впоследствии превратится в самостоятельный жанр застольной лирики (хамрийят), столь популярной в придворных кругах и среди горожан арабо-мусульманской империи.
Газель (араб. “воспевать (женщину)”)
Лирическое стихотворение, состоящее обычно из семи двустиший – бейтов построенное на одной рифме, часто с редифом (редифом называется слово, повторяющееся после рифмы в каждой рифмующейся строке). Как правило, двустишия связаны между собой скорее настроением, чем мыслью или идеей. Основное содержание газели составляют или восхваление красоты возлюбленной, или тоска и печаль по поводу неразделенной любви, или размышления о своей судьбе. Главное внимание уделялось образности газели и ее музыкальности – ведь все газели когда-то пелись, а не читались. Каждый поэт стремился рассказать о своей любви не так, как это делали его предшественники, внести собственный вклад в сокровищницу лирической поэзии.
Выдающимися мастерами газели были Рудаки, Саади, Алишер Навои, Низами Гянджеви, Саккаки, Хафиз Хорезми. Под влиянием восточной поэзии форма газели появилась в русской и западно-европейской литературе, прежде всего в переводах классической поэзии Востока. Образцы "русской" газели, в которых точно передается строение этой формы, создал В.Я. Брюсов. Обращение к такому типу лирического стихотворения нередко встречается и в современной поэзии.
Структура Первый бейт имеет название матла (араб. “зачин”), в нем полустишия-мисра рифмуются между собой (аа). В последующих бейтах рифмуются вторые полустишия-мисра (первое полустишие свободно от рифмы).
Схема рифмовки такова: аа – ба – ва – га – да
Часто в газели присутствует и редиф (араб. “идущий вослед”) – слово или группа слов, располагающиеся после рифмы (в вышеприведенной газели редиф – это слова “красным, желтым, зеленым”). Для финального бейта также характерен тахалус ( – упоминание имени автора. Тахаллус – это ничто иное, как ник, - он и переводится с арабского – “прозвище” (как и у некоторых сетевых авторов, у тюркских поэтов иногда было по несколько ников – например, поэтесса Надира была известна также как Камила и Макнуна, Дильшод – как Барно и т.д.).
Жду свершения обета, день и ночь мне нет ответа,
Ты сказала: "Жди рассвета!" - вот теперь рассвета жду я.
Слов всесведущий ценитель, всех правдивых наставитель,
Мерных строчек повелитель, со стихом, Машраб, в ладу я!
(Маршраб)
Рубай
Четверостишья, впервые появившиеся в персидской поэзии 9 в. В древнем иранском фольклоре и в арабо-персидской поэзии (а также поэзии на языке урду. Различают также таране – песенные рубаи и дубейти – состоящие из двух бейт. Жанр рубаи получил широкую известность в связи с тем, что в нем писал свои стихи Омар Хаям.
Маснави.
(маснави, араб. — сдвоенное)
Заря закатная венцом
Свой пурпур растянула.
Укрылся одеялом свод,
И в мире всё уснуло.
Луна,подруга нежных грёз,
Мне луч свой протянула,-
Я к небу подняла ладонь-
На ней звезда сверкнула.
Предание гласит, что умением слагать стихи грустного любовного содержания особенно прославились поэты хиджазского племени узра. В небольших стихотворениях поэты "узритской школы" воспевали целомудренную любовь несчастных влюбленных, разлученных злым роком. Узритская лирика проникнута чувством тоски и обреченности, покорностью перед неумолимой судьбой. В средневековых антологиях мы находим рассказы об узритских поэтах, чья судьба обычно неотделима от судьбы их возлюбленных. Такова одна из самых популярных пар: Кайс ибн аль-Мулаввах по прозвищу Маджнун ("Обезумевший от любви") и Лейла. По преданию, Кайс бежал в пустыню, потому что не смог жениться на Лейле, отданной сородичами замуж за бедуина из другого племени. Обезумевший от горя, бесцельно бродил он, общаясь лишь с дикими зверями, вспоминая Лейлу и сочиняя о своей несчастной любви грустные стихи. История трагической любви Лейлы и Маджнуна не менее популярна на Востоке, чем история Тристана и Изольды или Ромео и Джульетты в Европе. Иной была любовная лирика горожан Хиджаза, носившая, в отлично от печальной и целомудренной узритской лирики, радостный и чувственный характер. Среди мастеров хиджазской городской лирики более других прославился мединец Омар ибн Аби Рабиа, в своих стихах воспевавший прекрасных паломниц, а также знатных жительниц Мекки и Медины, высокомерных и пресыщенных жизнью.
Омар ибн Аби Рабиа живописует внешний облик женщин своего времени, их характер и привычки, описывает любовные свидания. Он широко использует диалог, в котором можно уловить интонации знатных мединских и мекканских "дам" и "кавалеров", с их "куртуазностью", привычкой к праздности и кокетством.
Даже самая каноническая, самая окостеневшая форма, прежде чем стать таковой, когда-то должна была обладать всеми признаками новизны и творческой свежести. Создатель арабской поэзии – бедуин, пел песни о своей жизни, импровизированно и свободна, не зная даже понятий вычурности и снобизма. Его речь легка и не ограничена канонами и жесткими нормами. Парадоксально, что именно этой речи суждено было стать каноном и нормой, отворачивающими читателей от Аравийской литературы. Со временем она стала вбирать в себя и осваивать культурные традиции покоренных пародов — арамейцев, греков, контов, персов, таджиков, тюрков, берберов, негров, вестготов. Эти свежие соки обогатили арабскую поэзию, привнесли в нее новые темы и образы. Арабская поэзия средних веков дала миру многих замечательных мастеров, превосходных художников, глубоких и оригинальных мыслителей. Без творчества живших в разные века и в далеких-друг от друга краях Абу Нуваса и аль-Мутанабби, Абу-ль-Ала аль-Маарри и Ибн Кузмана история мировой литературы была бы бедней, потеряла бы много ни с чем не сравнимых красок. Она была бы бедней еще и потому, что лишила бы все последующие поколения поэтов своего глубокого и плодотворного влияния. А влияние это прослеживается не только в творчестве арабоязычных или — шире — восточных поэтов; оно ярко сказалось в поэзии европейских народов.
Сложная структура поэзии Аравийского полуострова, полная непривычных нашему уху названий, строгих норм и однообразия, кажется, еще больше отдаляет сдержанное население холодную Россию от жарких, контактных мелодий поэтов Аравии. Но как и российские стихи, арабские весьма многообразны и неоднозначны, хоть и ассоциируются сперва с чем-то застывшим, окаменелым — каноничность композиции и образных средств, тематический и жанровый традиционализм, стереотипность. Эта поэзия удивительно самобытна, самой своей сущностью связана с образом жизни и мироощущением скотовода- кочевника, а позже ревностного мусульманина. В ней запечатлелись теплые краски жаркой пустыни и яркого южного неба, песчаной бури, эмоциональность и чувствительность, свойственная южанам, способным оценить и магию ночи, и красоту верблюда.

Арабы оставили глубокий след в мировой культуре. Они явились основоположниками крупнейшей мировой религии — ислама, а также прославились своими завоевательными походами, подчинив власти халифов Ближний Восток, большую часть Африки и часть Южной Европы. Большое влияние арабы оказали и на развитие искусства, в частности, архитектуры и литературы.
К сожалению, сохранилось крайне мало памятников доисламского периода, однако точно известно, что литература у бедуинов существовала еще до рождения Мухаммеда. Арабские племена сумели сформировать довольно богатый и разнообразный язык. Большинство произведений раннеарабской прозы восхваляли племенной быт. Много было произведений, посвященных теме любви, героизму, а также жизни в пустыне, которая рисовалась как нечто одновременно безжалостное и прекрасное.
АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Роль арабов в мировой цивилизации связана с возвышением и распространением ислама и основанием империи халифов. Сведения о доисламской истории Аравийского полуострова крайне скудны и изобилуют пробелами. Однако литература у арабов (по большей части поэзия) существовала еще до Мухаммеда (ок. 570–632). Бедуины выработали необычайно богатый и точный язык. Мы располагаем, благодаря стараниям позднейших филологов, образцами их ораторского искусства, мудрых речений и исторических повествований. Но вдохновеннее всего выражал себя доисламский дух в поэзии. Главными ее темами были самовосхваление, здравицы своему племени, осмеяние, любовь (как правило, оплакивалось расставание с любимыми), скорбь о погибших героях (такие плачи сочиняли в основном поэтессы), а также яркое и непосредственное изображение пустыни, изобилующей ужасами и опасностями, чья природа груба, но и живописна – с ее палящим дневным зноем и безжалостными холодами по ночам, с колючим кустарником и диким зверьем.
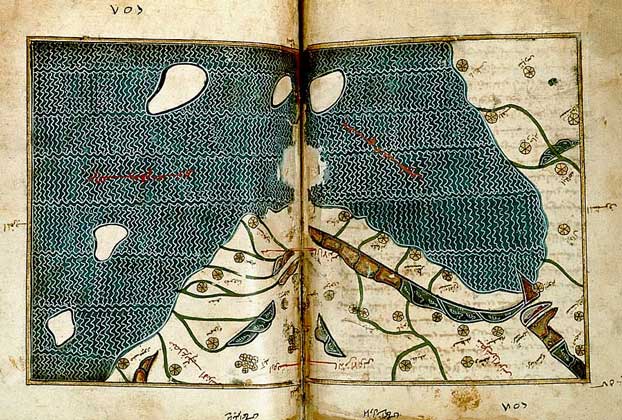
Поэзия.
Завоевание принадлежавших Византии и Персии территорий от Срединной Азии до африканского побережья Атлантики всего за столетие полностью изменило социальную среду и культурные взгляды арабов. Однако, против ожидания, новый образ жизни не подействовал на литературу сколько-нибудь существенным образом. Впрочем, некоторую новизну можно отметить уже у поэтов, переставших описывать жизнь в пустыне, – таковы Омар ибн-Аби Рабия (ум. 711), вдохновенно живописавший романтическую и иногда своевольную любовь, и халиф аль-Валид II (ум. 744), заменивший в своей жизнелюбивой поэзии классическую ритмику размерами народной любовной песни.
В своем тяготении к чисто формальному совершенству арабская словесность обратилась к ритмизованной прозе, наподобие той, какой написан Коран и которая широко использовалась начиная с 10 в. Этот стиль достиг вершины в так называемых макамах. Впервые появившись у аль-Хамадани (ум. 1008), макамы приобрели окончательный облик у аль-Харири (ум. 1122). Успех его книги Макамат был огромен; подражания ей писались не только по-арабски, но и на иных языках, в том числе на древнееврейском, а ее персонаж, вор и краснобай, возможно, стал образцом для испанского плутовского романа.
В арабском мире так и не появилось индивидуального авторства в эпосе, беллетристике и драме. Они разрабатывались как безымянные выражения того или иного художественного направления, и это свойственно даже тем произведениям, которые составили наиболее существенную долю арабского вклада в мировую литературу. Художественный вымысел использовался для решения иных задач: например Ибн Сина (Авиценна) написал два романа, скрывая за аллегориями мистическое содержание, а Ибн Туфейль (ум. 1185) в прославленном философском романе Живой сын Бодрствующего повествует о ребенке, оставленном на необитаемом острове и познающем высшую истину с помощью разума, присущего ему от рождения. Путешествие в преисподнюю в Послании прощения Абу-ль-Аля аль-Маарри, возможный источник Божественной комедии Данте, кажется романом, однако сюжет служит лишь поводом для рассуждений на литературные темы. Подобные произведения не умещаются в рамки арабской беллетристики, как и сказка о животных Калила и Димна, принадлежащая к старейшим и знаменитейшим образцам прозы, и не только потому, что это перевод со средневекового персидского (и в конечном счете индийской Панчатантры), но и потому, что сказка преследует прежде всего цели назидания.
Арабские исторические сочинения представляют собой скорее россыпи рассказов о событиях, нежели попытки осмыслить историческое развитие. В старейших из них – в произведениях таких авторов, как ибн Исхак (ум. 768), с его жизнеописанием Мухаммеда; аль-Баладхури (ум. 892), написавшего историю ранних завоеваний и арабских племен; аль-Табари (м. 923), оставившего всемирную историю, доведя ее до 10 в. н.э., – автор держится в тени, единственной своей задачей полагая отыскание наилучших источников и достоверную передачу найденных сведений. В итоге изложение выглядит отрывочным, незатейливым, но зачастую создает впечатление свидетельства очевидца. Лишь в дальнейшем и прежде всего под воздействием жизни при дворе, поощрявшем притворство и лесть, история стала вырождаться в пустое славословие царствующему государю, его династии и вельможам. Единственный арабский историк, пытавшийся толковать историю как закономерный процесс развития общества, – философ и ученый Ибн Хальдун (ум. 1406).
Трактаты и описания виденийй, принадлежащие таким выдающимся мистикам, как аль-Газали (ум. 1111) и ибн-аль-Араби (ум. 1240), хотя и писались ради поучения или воспитания, зачастую столь проницательны в исследовании души человеческой и столь мощно передают религиозные чувствования, что их место в ряду высочайших литературных достижений.
Явный упадок арабской литературы становится заметным уже в 12 в. С 14 до конца 19 вв. не появилось ни одного достойного упоминания писателя, хотя словесность, разумеется, продолжала существовать. Воздействие западной культуры и политическое возрождение арабского мира породили новую литературу. Наиболее одаренные арабские литераторы удачно соединяли отечественную традицию с новым духом, отозвавшимся на западное влияние. Эта молодая арабская литература создается как мусульманами, так и христианами, а также арабами, живущим в Северной и Южной Америке. Предтечей этого развития был живший в Египте уроженец Ливана Джурджис Зейдан (1861–1914). В числе значительных поэтов – египтянин Ахмед Шавки (ум. 1932), сириец Джебран Халиль Джебран (1883–1931), Халиль Мутран (1872–1949), Ахмад Шаваи (1868–1932), Михаил Нуайма (1889–1988). Среди ведущих прозаиков 20 в. – братья Таймуры – драматург Мухаммад (ум. 1921) и романист Махмуд (ум. 1973), эссеист Таха Хусейн (ум. 1973), романист Нагиб Махфуз. Возникла и драма, в традиционной литературе практически отсутствовавшая, отличные пьесы писал Тауфик аль-Хаким (1898–1987).
Коран
Литература северных арабов
Самый древний — раджаз-диямб, сохранившийся гл. обр. для дидактических трактатов (учебников и т. д.). Древнейшие жанры — урджуза (раджазный экспромт, вызов на бой и т. д.), фахр — похвальба, хиджа — сатира, мадх — хвала, марса — заплачка, насиб — любовная песня, са’р — песня мести, уасф — описание и т. п. Потом такие отрывки (кыт’а) стали соединять в большую единицу — касыду, лирическую поэму. Одна и та же рифма проходит как в садж’е, через всё стихотворение; это мешало развиться длинной эпической поэме в стихах. Сохранившиеся произведения этой группы возникли не раньше конца V века.
Бедуин нерелигиозен: суеверий мало, святилища-оракулы редки (главные — в Ка’бе, в Мекке), жрецы-шаманы — невлиятельны. Много христиан — по имени; местами некоторые племена (оседлые) приняли иудейство. Горожан и земледельцев презирают. Грамотных почти нет. В пограничных царствах наследственные военные цари; там влияют византийская и персидская культуры.
Переходный период (начало VII — середина VIII вв)
Начало его — появление ислама, конец — воцарение Аббасидов. Это период смены племенного начала общинно-городским и государственным и завоеваний арабов; к концу его торговый капитал решительно побеждает военно-бедуинскую реакцию.
Ко времени появления ислама Аравия страдала от относительного перенаселения. Массовая эмиграция затруднялась Персией и Византией; происходил вынужденный переход к оседлости и затем расслоение на зажиточных и бедняков-су’луков, обременённых долгами. Ислам, религия нравственного и социального закона, сменяя фетишизм, выдвинул принцип общинный на место племенного и сумел удовлетворить (не в ущерб зажиточным) нужды городских су’луков снижением долгов, погромами арабско-еврейских посёлков, установлением фонда закята — обязательной милостыни-налога, — организацией набегов и внешних завоеваний. Последние привлекли бедуинов и расширили общину до военного государства-халифата. Династия Омейядов, ослабляемая распрями бедуинских племён, на которые опиралась, не могла подавить консервативно-пуританские (городские), радикально-демократические (хариджиты) и мистико-легитимистские (шииты) движения в исламе; когда же прекратились завоевания и добыча, династия Омейядов потеряла авторитет и пала вследствие восстания оседлого новообращённого населения Персии, требовавшего равноправия, облегчения налогов, упорядочения аграрно-крепостнических отношений, лишь запутанных завоеванием; движение использовали торговые города, недовольные хозяйничаньем бедуинской военщины. Революция шла под шиитским лозунгом возвращения власти потомкам пророка, от которых ждали новых реформ в духе идеального ислама; случайные причины выдвинули Аббасидов (вместо более близких пророку Алидов).
На короткое время делается модной раджазная касыда. С другой стороны, утверждается джахилийский касыдный канон, и ему следуют рабски. Талантливейший поэт эпохи — представитель новой городской поэзии Омар ибн Абу Рабиа. Знаменита стихотворная война трёх мастеров сатиры и хвалы — Ахталя (en:Akhtal), Джарира (en:Jarir ibn Atiyah) и Фараздака (en:Al-Farazdaq). Представители этой эпохи: псевдоклассик Зу-р-Румма, автор раджазных касыд — Аджаджджи; известная поэтесса — Лейла аль-Ахйалиййа (en:Layla al-Akhyaliyya). Появляются первые работы, по богословию, праву, истории, грамматике, алхимии.
Эпоха торгового капитала и абсолютизма (середина VIII — конец IX вв.)
Феодальный период (конец IX — середина XI вв.)
Эпоха нашествий и разорения (середина XI — конец XIII вв.)
Время упадка (XIV — начало XIX вв.)
Сказалось разорение Азии дикими пришельцами, а Египта грубыми мамлюками. Захват арабских стран турками-османами (нач. XVI в.), финансовая эксплуатация и падение левантской торговли (в связи с открытием морского пути из Европы в Индию) ещё ухудшили дело и усилили церковную реакцию. Творчество иссякло: пишут много и вычурно (поэт Хилли XIV в.), но это мёртвое подражание. Учёные — энциклопедисты-эксцерпторы (Суюти, XVI в.) и богословы (ценны только историки). Аскетический суфизм очень распространён. Продолжают возникать народные повести и анекдоты — материал для наставительных или развлекающих литературных сборников: Ибн-Хиджджа [XV в.], Ибшихи [XV в.], Кальюби [XVII в.] и др. Итлиди [XVII в.] обрабатывает в виде романа народную легенду о гибели Бармекидов, везирской семьи при Харун-ар-Рашиде. Народный египетский говор проникает в литературу; на нём Ширбини [1687] пишет свою жалобу феллаха на грубость и темноту народа с выпадами против господствующих классов; очень живое произведение.
Последний период (с начала XIX века)
Национальное возрождение начинается с проникновением европейского капитала и культуры и постепенным освобождением от гегемонии турок. Империалистическая эксплуатация разбудила национальные чувства. Началом был египетский поход Наполеона; после него здесь выдвигается Мухаммад Али и его династия, проникнутая умеренным западничеством. Рост торговли (хлопок) и постройка Суэзского канала выдвинули буржуазию, усваивающую западное просвещение, либеральные и революционные настроения. Даже религиозный центр — духовная академия ал-Азхар — не безусловно враждебен им. Автономия Ливана [после 1860] и европейские (конфессиональные) школы (лучшие французские и американские) позволяют развернуться культурной работе арабов-христиан Сирии; мусульмане идут за ними. Многие деятели выселяются в более свободный (и при английской оккупации) Египет; создаются видные эмиграционные центры в Соединённых Штатах и Бразилии. Варваризованная Северная Африка, Месопотамия и Аравия культурной роли не играют (Алжир и Тунис — небольшую); быстро арабизующийся Судан жадно усваивает и имитирует прогрессивную для него средневековую литературу.
Ссылки
Статья основана на материалах Литературной энциклопедии 1929—1939. В статье использован текст Л. Некоры, перешедший в общественное достояние.

Авторы: Сухейл Бушруй (Suheil Bushrui) и Джеймс М. Маларки (James M. Malarkey)
Пожалуй, ни одна другая литература настолько тесно не связана с историей своего народа, как арабская. Однообразие кочевой жизни, подъем ислама, арабские завоевания, имперская роскошь ранних Аббасидов, взаимодействие и взаимное обогащение с другими цивилизациями (в частности, в Испании), упадок и свержение Халифата, период культурного застоя, сопротивление и инспирации, вызванные колониальными завоеваниями, и в конечном итоге вновь просыпающееся самосознание, направленное на формирование ярких независимых государств в современном мире – все это подробно отражено в арабской литературе, все взлеты и падения которой соответствуют аналогичным периодам в судьбе самих арабов.
Мы можем провести здесь сравнение с таким же неполным сводом древнеанглийской литературы того же периода, на который пришелся и расцвет арабской культуры. При этом, как уже говорилось выше, в этот период времени Запад в культурном отношении уступал мусульманскому миру, поэтому утрата части литературного наследия не столь значительна. Нам пришлось бы сосредоточиться на XVI и XVII веках европейской литературы и наблюдать эффект отсутствия большинства работ, созданных в эпоху Возрождения, чтобы оценить, как непродуманный запрет будущих поколений может привести к выборке, более случайной, чем та, которую представил бы любой из составителей антологии.
Самое важное в истории арабской литературы то, что ее началом является Священный Коран, не смотря на доисламскую поэзию. Помимо некоторых граффити (которые вряд ли можно отнести к литературному творчеству), датируемых I веком н.э., у нас нет никаких доказательств существования каких-либо сочинений на арабском до времен пророка Мухаммеда. Широко была распространена безграмотность и те немногие, кто умел читать или писать, научились этому за пределами Аравии. Это не стало, однако, препятствием для хорошего знания поэзии среди кочующих бедуинов. Многие отдельные племена сохранили устную традицию благодаря чтецам, так называемым rawis, которые зарабатывали на жизнь своим исключительным умением запоминать и декламировать стихи.
У доисламских арабов слова сами по себе, похоже, имели некую древнюю и магическую силу; человек, который умелым упорядочением ярких образов в четкие, правильно детализированные фразы, мог играть на эмоциях своих слушателей, не просто восхвалялся как артист, но и почитался как защитник и гарант чести племени, а также мощное оружие против врагов.
Преобладающей, да и едва ли не единственной формой стихотворения была касыда, сложная форма поэмы, которая использовала рифму и целью которой было передать с помощью богатых образов ценный опыт племенной жизни. Такие касыды создавались в VIII и IX веках н.э.; ученые того времени понимали важность сохранения старинной поэзии как источника вдохновения развивающейся поэтической традиции, а также бесценный ресурс в разъяснении языка, на котором написан Священный Коран. Некоторые из сур, особенно ранние Мекканские, сформулированы наподобие доисламских касыд, а не с помощью стандартных форм возвышенного выражения на арабском языке.
Техническая сложность самых ранних из известных стихотворений настолько высока, что можно предположить, будто поэты сочиняли и читали свои стихи еще несколько веков до этого. Настолько отточенные форма и стиль не появляются в один момент из ниоткуда.
Поэзия VI века н.э. говорит с нами на арабском языке, который был в то время в обиходе во всей Аравии.
Первые суры Корана были записаны в 633 г. н.э. со всей тщательностью, чтобы гарантировать, что Божественное Слово будет воспроизведено подлинно и предельно точно. Многие из них – и особенно в последующих главах – должно быть, казались первым ученым весьма неясными и несущими мистический смысл. Даже сегодня большая часть сложной образности нуждается в подробных разъяснительных комментариях. Несколько ветвей арабской литературы вытекают из необходимости объяснения Корана, включая грамматику и лексикографию, а арабский язык стал священным языком ислама. Значение этого трудно оценить в преимущественно христианском западном мире, так как Библия читается практически только в современном переводе – наиболее популярный англоязычный перевод известен как Библия короля Якова.
Так, арабский стал широко распространенным языком, каким и остается по сей день (несмотря на прошедшие годы депрессии), его влияние тесно связано с новой религией в течение первых трех веков ислама.
Джебран Халиль Джебран
Я чужой в этом мире.
Я чужой, и в этой отчужденности – гложущая тоска и лютое одиночество, но она всегда будит во мне мысли о чудесной неведомой родине и наполняет мои сны видениями далекой земли, никогда прежде не открывавшейся моему взору.
Я чужой своему телу и всякий раз, когда гляжусь в зеркало, улавливаю в своем лице нечто такое, чего не чувствует моя душа, и читаю в глазах такое, чего не хранят тайники сердца.
Я чужой, и хотя странствовал по всему свету, не нашел отчего края и не встретил ни единого человека, кто бы узнал меня и внял мне.
Утром, пробудившись, я чувствую себя узником в темной пещере, со сводов которой свешиваются ехидны, а по углам ползают скорпионы. Когда я выхожу на свет, тень моего тела тянется следом, а впереди бредут неведомо куда тени моей души, ищущие нечто за пределами моего разумения, хватающие то, что мне вовсе не надобно. Воротившись вечером, я ложусь в постель, набитую страусовым пером и шипами терновника, и странные мысли завладевают мною; тревожные, радостные, мучительные и сладостные желания одно за другим охватывают меня. А в полночь, выступив из расселин пещеры, мне являются призраки ушедших времен и духи забытых наций, и мы жадно вглядываемся друг в друга. Я вопрошаю их, и они мне ответствуют с улыбкой. Когда же я порываюсь их удержать, они исчезают, как истаивает дым.
Я чужой в этом мире.
Я чужой, и нет на свете ни единого человека, кто знал хотя бы слово на языке моей души.
Я шагаю по пустынной степи и вижу ручьи, взбегающие, обгоняя друг друга, из глубины долины к горной вершине, вижу голые деревья – миг, и они одеваются зеленью, расцветают, плодоносят и сбрасывают листву, ветви их падают наземь и обращаются в пятнистых извивающихся змей. Вижу птиц, что взмывают в небо и стремглав летят вниз, поют и жалобно стенают, и вдруг, замерев, расправляют крылья и превращаются в нагих дев с распущенными волосами и стройными шеями.
Из-под насурьмленных страстью век они призывно смотрят на меня, их алые, как роза, источающие медовый аромат уста улыбаются, они протягивают белые нежные руки, благоухающие миррой и ладаном; потом очертания их становятся зыбкими и они исчезают, как туман, но еще долго слышны отзвуки их насмешек надо мной.
Я чужой в этом мире.
Я поэт, я воспеваю стихами то, что жизнь пишет прозой, и пишу прозой то, что она слагает стихами. Потому-то я чужой и буду чужим до той поры, пока судьба не взыщет меня и не перенесет на родину.
Я восхожу во имя злака,
когда наш хлеб становится как ад,
когда усопшие листы из древних книг
вновь превращаются в обитель страха.
.
Цвет революций - радуга тугая -
под пеплом мира будит ото сна
закованное льдом озерным Время
и льет его в иные времена,
всходящие из теста поколений,
крепчающих, как детские колени,
день ото дня,
из года в год,
из века в век
передает
все доброе, чем славен человек.
пер. И. Ермакова (Оракулом, львом, орлом. Стихи поэтов Сирии. // Радуга. Киев. 1990. № 2)
Читайте также:

