Я стою у подъезда прислоняясь плечом к стене сочинение
Обновлено: 25.06.2024
Так война истязала материнские сердца. Она заставляла их всегда жить в мучительном поиске ответа на вопрос: что же заключалось в печальном взгляде ребенка, погибающего вместе со своими друзьями.
Оба эпизода, рассказывающие о чувствах матери, доказывают, как чудовищно страшно было людям в годы войны, потому что приходилось проходить через адский нравственный выбор. Этот выбор усугублялся военными событиями.
Автор хотел сказать, что это были не просто жизненные затруднения, житейское беспокойство, которое можно преодолеть. Это была жестокая нравственная пытка.Ее душевные терзания будут с женщиной всегда. Она вечно будет помнить, какие нравственные терзания пришлось ей вынести.
Муки материнского сердца вызвали у меня тяжесть в душе. В человеческом обществе не должно быть такого страдания. Человек должен испытывать радость жизни, а не терзания. Часто, чтобы сделать нравственный выбор, человеку в годы войны приходилось пройти через ужасные испытания. Выбор матери в тексте Ю. Яковлева – настоящий подвиг.
Итак, женщины-матери испытывали в годы войны чудовищные физические и душевные страдания, ведь фашистские издевательства могли затронуть их детей в любой момент.
У нас с сыном глаза серые, с едва заметными крапинками. В ясный летний день от травы и листьев крапинки становятся заметнее и глаза зеленеют. В пасмурные дни глаза серые - крапинки пропадают совсем. У сына припухшие веки, а ресницы редкие, острые, как обойные гвоздики. Смотрит он исподлобья, потому что у него привычка слегка наклонять голову вперёд, как бы желая коснуться подбородком ямочки между ключиц.
Глаза сына смотрят на меня, хотя самого его давно нет рядом. И вот уже сколько лет я всматриваюсь в них, хочу прочесть ответ на вопрос, мучающий меня всю жизнь, начиная с того далёкого страшного дня.
– Ваш сын приговорен к казни.
Я прислонилась к стене. Потом собралась с силами.
– Можно мне видеть коменданта?
Меня пропустили. Комендант сидел на табуретке. На нем был только один сапог. Другой он держал в руке и придирчиво осматривал.
Комендант, вероятно, страдал лихорадкой, потому что его лицо было желтым и на нем проступали следы недосыпания и усталости. Под глазами начинали вырисовываться темные мешки.
– Я пришла умолять вас о моем сыне!
– Умолять? О сыне? Ему надо помочь?
– Он приговорен к казни.
Мейер вытер лоб ладонью.
– Он работал на лесопилке.
– Ах, лесопилка! – Он как бы вспомнил о лесопилке. – И ваш сын. Понимаю, понимаю.
Я не могла взять в толк - издевается он надо мной или сочувствует. Хотела думать, что он сочувствует. Смотрела на него глазами, полными слез.
– Эти глупые, неразумные мальчишки убили часового, - после недолгого молчания сказал комендант.
– Я отдаю себе отчет, насколько это вам сложно, немыслимо трудно, заговорила я. – Но умоляю вас войти в мое положение.
– Понимаю, - сказал он и как бы ушел в себя.
Я поверила, что он сочувствует мне, ищет выхода. И чтобы он самостоятельно не пришел к отрицательному решению, я заговорила:
– Моя матушка? – Он слегка посветлел. – Моя матушка?
По-немецки это звучало "мейн муттерхен".
– Она служит в госпитале в Дюссельдорфе. Старшей фельдшерицей. Вы знаете, – комендант оживился, – она чем-то похожа на вас, хотя вы значительно моложе.
– Все матери похожи друг на друга.
– Совершенно верно, - он как бы перенесся в далекий Дюссельдорф, в родной дом, к своей муттерхен. Потом он сказал:
– Одного часового убили четверо юношей. Это вполне могли сделать и трое. Не правда ли?
– Правда, - отозвалась я.
– А один мог быть задержан случайно. Могло ведь так случиться?
– Могло, - с готовностью подтвердила я.
На меня нашло материнское ослепление. Никого вокруг не существовало. Только мой сын. И для того чтоб он был, я готова была на любое признание, на любой поступок. Пропала гордость. Обязанности перед близкими людьми. Только бы он жил! В надежде выиграть, я играла с Мейером в игру, которую он мне предложил.
Комендант покосился на часы и сказал:
– Вам придется поторопиться, госпожа учительница, казнь произойдет через пятнадцать минут.
– Куда мне бежать?
– Бежать не нужно. Вас довезут на автомобиле. Тут недалеко. Километра полтора.
Он крикнул: – Рехт!
Появился длинный, худой Рехт. Жаркая, слепящая радость обволокла меня. Я спасла сына!
Мальчики стояли у освещенной солнцем кирпичной стены. Их было четверо. Все четверо - мои ученики. Они были такими, какими я привыкла их видеть всегда. Только неестественно бледны, словно припекающие лучи не касались их, а скользили мимо. И со стороны казалось, что четверо ребят загорают на солнце.
Машина остановилась. Я нетерпеливо спрыгнула на землю. Вслед за мной, согнувшись вдвое, из машины выбрался длинноногий Рехт. Он распрямился и крикнул:
– Сын госпожи учительницы может отойти от стены! Который из вас сын госпожи учительницы?
Мой сын не шелохнулся. Он стоял неподвижно, как будто команда Рехта его не касалась. Тогда я сделала еще несколько шагов и встретилась взглядом с Кирюшей. В этой маленькой героической шеренге, застывшей у кирпичной стены в ожидании своего последнего часа, мой сын был крайним справа. Он по привычке опустил голову и смотрел исподлобья куда-то в сторону. Я почувствовала - он боялся встретиться со мной взглядом, чтобы не проявить слабость. Его веки слегка вздрагивали. Глаза смотрели виновато. Перед кем он чувствовал вину? Передо мной или перед самим собой? Но, может быть, никакой вины в его взгляде не было и то, что я принимала за вину, было печалью расставания?
Он знал, что сейчас его жизнь находится в моих руках. Стоит мне кивнуть - "вот мой сын", - и не будет кирпичной стены, не будет фашистов с автоматами, не будет удушающего ожидания смерти.
– Госпожа учительница, пора, - сказал длинный Рехт. – Вы задерживаете казнь. Может быть, здесь нет вашего сына?
Я вздрогнула. По сердцу рванула мысль: я нахожусь на грани страшного предательства. Спасая сына, я одновременно предаю его. Предаю его, и Кирюшу, и отчаянного Дубка, и осиротевшего Мишу. Умирать всегда тяжело. Но куда тяжелее расставаться с жизнью, если тебя предал близкий человек.
Я вдруг почувствовала, что все четверо одинаково дороги мне близость смерти уравняла их в моём сердце.
– Госпожа учительница. Берите любого и уходите. Слышите?
Слова Рехта, как пули, просвистели над моим ухом. Я взглянула на сына. Кирпичная стена показалась мне сложенной из детских кубиков. А его я увидела совсем маленьким. В кроватке с сеточкой. Его мучила корь. Он метался в жару. Но почему-то не тянулся ко мне, а забился в уголок, чтобы там перестрадать в гордом одиночестве. Он и сейчас не звал меня на помощь.
Только великий Рембрандт изобразил себя счастливым, недаром он не пожалел холста и красок и вместе с собой за компанию нарисовал свою любовь Саскию. Саския сидит у него на коленях. Она повернулась лицом к зрителям, словно собирается сниматься. Одной рукой обняла счастливого Рембрандта за шею, другой подняла кубок с вином.
Я думаю о Рембрандте и Саскии, и мне мучительно хочется сказать Наиле:
- Сядь ко мне на колени.
- Ты с ума сошел! - воскликнет она. Кровь ударит в лицо, черные глаза сверкнут. Наиля резко отвернется, но через несколько мгновений посмотрит на меня из-за плеча и спросит: - А зачем?
- Я пишу автопортрет, - отвечу я, - и ты будешь как бы моей Саскией.
- Но может быть, я не хочу быть твоей Саскией? Откуда ты знаешь, что я хочу.
- Будь, пожалуйста, - смиренно попрошу я, - хотя бы на портрете. Сядь ко мне на колени, обними за шею и подними кубок с вином.
- О-о-о! - восклицает Наиля, моя Саския. - Я не пью вина.
- И не пей. Ты только подними кубок.
- Но это будет неправда.
Я не сразу соображу, что ответить, но, подумав, скажу:
- Пусть это будет неправда, лишь бы остальное было правдой.
И тогда Наиля как-то странно посмотрит: пожалеет то ли меня, то ли себя. Она медленно наклонится ко мне и коснется губами моих губ.
Она коснется губами моих губ и тихо произнесет:
- Мен сени джуда яхши кораман. Я тебя. хорошо. вижу.
И уйдет. А я замру в прекрасном оцепенении, словно вынырнул из темной глубины на воздух, к солнцу. Я буду прыгать и кричать. А потом не прикоснусь к еде, чтобы подольше сохранить на своих губах след ее губ, след моего счастья. Ведь в той стороне, откуда приехала Наиля, слова "я тебя хорошо вижу" равносильны словам "я тебя люблю". Я тебя хорошо вижу я тебя люблю. Это я хочу, чтобы так было. А пока что я стою один. Стою и позирую сам себе. И глаза мои смотрят в одну точку, словно в ней - в этой точке - причины всех моих невзгод и неудач. Я позирую сам себе. Позирую, хотя у меня нет ни холста, ни красок, ни таинственного дара художника.
Я стою у подъезда, прислонясь плечом к стене, нога за ногу, руки в карманах. Жесткие волосы спадают на глаза, но я не обращаю на них внимания, вернее, мне кажется, что это хорошо, когда волосы спадают на глаза, красиво. На мне джинсы, сизые, истертые почти добела на коленках, как надо, и спущенные на низ живота. Хорошие джинсы, фирменные. И куртка на мне тоже джинсовая, коротенькая куртка, помятая, с искусными заплатами на локтях. Из правого верхнего кармашка виднеется коробочка сигарет "Мальборо". Правда, коробочка пустая, а когда у меня просят сигарету, я отвечаю: "Только что кончились" - и показываю пустую коробочку.
Я стою неподвижно, и только челюсти работают, гоняют вязкий резиновый шарик от щеки к щеке. Жевательная резинка давно утратила приятный, холодящий вкус, и ее в самый раз выплюнуть. Но я упорно жую, убеждая себя, что это очень приятно.
Я стою напротив школы и жду Наилю. И чтобы скоротать время, смотрю на себя со стороны, как бы разглядываю в воображаемое зеркало. Мне кажется, что у меня вид современный и мужественный. Я плюю на то, на что полагается плевать настоящему современному парню, и не развожу сантиментов.
Нога за ногу. Руки в карманах. Справа на груди красная крышечка "Мальборо". Все о'кей!
Я доволен собой, и мне хочется улыбнуться. Но я сдерживаюсь: у меня некрасивые зубы - редкие и неровные, и один передний зуб выступает вперед, не держит равнения. Кроме того, когда я улыбаюсь, мои глаза превращаются в щелки, нос морщится, подбородок отходит назад.
Я устаю стоять на одной ноге, плечо затекло. Но я держусь. Мимо идут люди. Мне очень хочется, чтобы они обращали на меня внимание, чтобы я им нравился, чтобы они про себя думали: "Какой парень!"
Но люди проходят мимо меня, как мимо манекена. Я почему-то не привлекаю их внимания.
Готовое сочинение к варианту №22 сборника "Типовые экзаменационные варианты ЕГЭ-2021".
Начало текста
Я стоял у окна вагона, бесцельно глядя на бегущий мимо пейзаж, на полустанки и маленькие станции, дощатые домики с названиями чёрным по белому, которые не всегда успевал прочитывать, да и зачем. Поля, перелески, столбы, волны проводов, стога сена, кусты, просёлки — и так час за часом. Рядом, у следующего окна, стоял мальчик.
Я стоял у окна вагона, бесцельно глядя на бегущий мимо пейзаж, на полустанки и маленькие станции, дощатые домики с названиями чёрным по белому, которые не всегда успевал прочитывать, да и зачем. Поля, перелески, столбы, волны проводов, стога сена, кусты, просёлки — и так час за часом. Рядом, у следующего окна, стоял мальчик. Он смотрел неотрывно. Мать позвала его в купе, он схватил бутерброд и снова прилип к стеклу. Она попробовала усадить его к окну в купе, но он не согласился. 3десь, в коридоре, ему никто не мешал, он был безраздельным хозяином своей подвижной картины. Я уходил, разговаривал со своими спутниками, возвращался и заставал его в той же позе. Что он там высматривал, как ему не надоело, ведь это было совершенно бессюжетное зрелище, не то что экран телевизора. Теперь я смотрел не в окно, а на него. Кого-то он мне напоминал. Ну конечно, та же поза, те же грязноватые стёкла.
Они-то и помогли мне вспомнить мои детские путевые бдения. С той же жадностью и я ведь простаивал часами перед теми же стёклами, заворожённый мельканием путевых картин. Оттуда, не из близи, несущейся навстречу, а из далей, еле плывущих, почти недвижимых пространств, из лесной каймы на горизонте, серых туманных полей возвращались устремлённые к ним детские мечтания. В тех смутных, расплывчатых картинах я был путешественником, был охотником и одновременно медведем, был журавлём, шагающим по болоту.
Бесконечная смена берёзок, елей, лесных проталин, деревень, пашен — и снова лес, просеки, изгороди — всё это тогда почему-то не усыпляло, а возбуждало воображение.
Я растворялся в огромности этой земли, она входила в сознание, откладывалась на всю жизнь. Спустя десятилетия у окна поезда, постукивающего по рельсам Германии, а то и Китая, где каждый клочок обработан, откосы железнодорожных насыпей сплошь засеяны, в моём восприятии присутствовали впитанные детской душой просторы, эти стояния у окна.
Вдруг в бесформенной зыбкости воспоминаний, глядящих из закатного окна, обозначилось что-то. Это был мужик, огромный, в жёлтой рубахе, с колом в руках. Смутно вспомнились станционный палисадник, несколько телег, лошади с холщовыми торбами на мордах. Но всё это: и привокзальная площадь с деревянными мостками, и перрон, и станционный колокол — всё было как бы задником, а впереди, подняв кол, мужик бежал за пареньком, который, прикрыв голову руками, мчался вдоль перрона по ходу поезда. Он бежал, прихрамывая, лицо его было обращено к вагонам, на какой-то миг глаза наши встретились. Ужас был в его взгляде, крик о помощи, а перрон был пуст, мне показалось, что я единственный человек, единственный свидетель, которого он увидел; я наклонился к краю рамы, но в окно уже вошли огороды с чучелами, шлагбаум, и станция исчезла, как исчезали все другие станции. Догонит ли его этот с колом, что будет с ним, за что он его так — ничего этого я никогда не узнаю. Помню своё отчаяние, которое росло оттого, что поезд не останавливается, мчится всё дальше, а там, может, парня догнали и бьют, и никто этого не видит, не знает, и я не могу никого позвать, показать. Кажется, я действительно закричал, побежал к отцу, который был в купе, никто ничего не понял из моих объяснений, и я понял, что ничего не могу им объяснить. Кажется, так оно было, но с уверенностью не могу сказать, да и какое это имеет значение.
Значение же имели огромные глаза этого паренька, мужика того я узнал бы, а от парня остались только ужас, заполнивший всё окно, и невозможность вмешаться, помочь, закричать. И опять пошли перелески, колыхания проводов, песчаные тропки в зелёной траве, голубые поля льна, серебряные — овсов, красные — гречихи, золотистые — ржи, сизые — капусты, ельники, клевера, рыжие стада — огромный мир, который заботливо старался смыть ту случайную картинку. Она затерялась в памяти. Но сейчас, глядя в такое же пыльное, в грязных потёках окно, я с завистью вспомнил своё мальчишеское отчаяние.
(По Д. А. Гранину*)
Даниил Александрович Гранин (1919-2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель.
Какую роль в жизни человека играют воспоминания детства? Ничто не проходит бесследно, все происходящие события так или иначе влияют на нас. Д.А. Гранин в предложенном тексте поднимает проблему ценности детских воспоминаний.
Кроме того, один случай поразил мальчика до глубины души, и рассказчик вспоминает произошедшее в деталях. Однажды он увидел мужика с колом, собиравшегося избить беззащитного паренька. В тот момент ребёнок испытал настоящее отчаяние, потому что он не мог остановить поезд и помочь этому человеку. Думая об этом, герой ощущает зависть: уже невозможно с той же силой испытать детское сострадание, желание бороться с любой жестокостью и несправедливостью. Конкретизируя данную мысль, автор подчёркивает: в детстве мы эмоционально воспринимаем мир, и воспоминания о том времени зачастую вызывают у нас сильную тоску и жажду вернуть прошлое.
Итогом размышлений писателя становится такая позиция: воспоминания детства заставляют нас живо переживать случившееся много лет назад, возвращают человека в давно ушедший мир и пробуждают воображение.
Таким образом, ценность детских воспоминаний неоспорима. Именно в этот период мир кажется по-настоящему удивительным, не до конца изведанным и полным тайн.

Геннадий Шпаликов, поэт и сценарист, невероятно обаятельный и светлый человек, очень рано узнал, что такое успех. Многие считали, что у него впереди прекрасное будущее. Однако жизнь его сложилась очень драматично.
“Я жил, как жил…”
Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске.
Что такое - сквер направо
И налево тоже сквер.
Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл.
Кто он, я не знаю - кто,
А скорей всего никто,
У подъезда, на скамейке
Человек сидит в пальто.
Человек он пожилой,
На Арбате дом жилой,-
В доме летняя еда,
А на улице - среда
Переходит в понедельник
Безо всякого труда.
Голова моя пуста,
Как пустынные места,
Я куда-то улетаю
Словно дерево с листа.
Я иду по городу, мысль во мне свистит
Отпущу я бороду, перестану пить.
Отыщу невесту, можно и вдову,
Можно и не местную, Клавой назову.
А меня Сережей пусть она зовет,
Но с такою рожей кто ж меня возьмет?
Разве что милиция, и пешком под суд —
За такие лица просто так берут.
Я дошел до ручки, да, теперь хана.
День после получки — денег ни хрена.
Что сегодня? Пятница? Или же четверг?
Пьяница, ты, пьяница, пропащий человек.
Я иду по городу, мысль во мне свистит
Отпущу я бороду, перестану пить.
Отыщу невесту, можно и вдову,
Можно и не местную, Клавой назову.

Уволившись из армии, двадцати лет отроду, Геннадий задумался, чем же ему заняться. Оказавшись во ВГИКе, понял, что именно здесь он и хотел бы учиться – необыкновенная атмосфера, красивые девушки с актерского факультета. И хотя конкурс был громадный, Шпаликова приняли на сценарный факультет.
И началась веселая студенческая жизнь, бездельничали от сессии до сессии, ночами гуляли по Москве, бывало, не расходились неделями. Шпаликов чувствовал, что попал в свою стихию, всегда его окружали друзья.. Всех подкупала его бескорыстность, доброта и ирония, с ним было интересно.
Я жил как жил,
Спешил, смешил,
Я даже в армии служил.
И тем нисколько не горжусь,
Что в лейтенанты не гожусь.
Не получился лейтенант,
Не вышел. Я — не получился,
Но говорят во мне талант
Иного качества открылся:
Я сочиняю — я пишу.
Павел Финн, киносценарист, вспоминал:

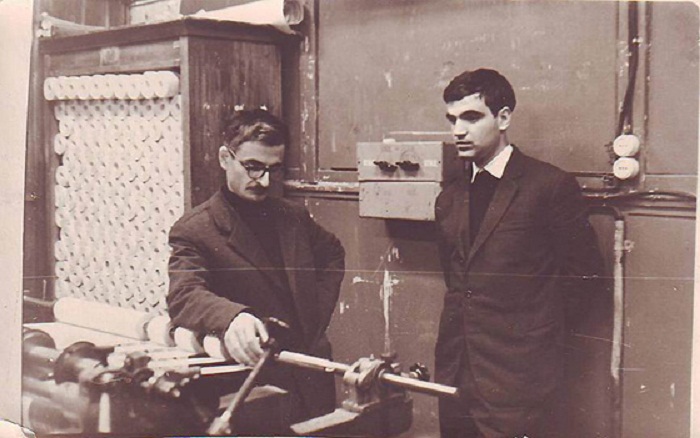
А ведь знаменитый польский режиссер Анджей Вайда, просмотрев первоначальный вариант фильма, который длился три часа, заявил:“Готов тут же, сейчас же, смотреть второй раз!”

Фильм вышел не торжественным и пафосным, какие были тогда в почете, а простым, легким и веселым.
Потом последовало еще несколько сценариев, по которым были поставлены фильмы. А заключительная сцена из фильма «Долгая счастливая жизнь в котором Шпаликов был режиссером, поразила даже великого Антониони.

Все эти сценарии были написаны Шпаликовым уже к 24 годам, с ним работали известные режиссеры, о нем писали, его легкие стихи, наполненные чистотой, грустной иронией и человечностью, и трогательные, сентиментальные песенки, находили отклик в душе его ровесников и не только их. Его песни распевала вся страна.
Лед, лед
Ладогой плывет.
Лед, лед
Ладогой плывет.
Все сомнения откинув,
Посреди большого дня
Сяду, сяду я на льдину —
Льдина вынесет меня!

Городок провинциальный,
Летняя жара,
На площадке танцевальной
Музыка с утра.
Рио-рита, рио-рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год.
Ничего, что немцы в Польше,
Но сильна страна,
Через месяц – и не больше –
Кончится война.
Рио-рита, рио-рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год.
Стихи Геннадия Шпаликова в великолепном исполнении Михаила Ефремова и Александра Яценко, до мурашек.
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.
А не то рвану по следу,
Кто меня вернет?
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где - боже мой! -
Будет мама молодая
И отец живой.
Людей теряют только раз,
И след, теряя, не находят,
А человек гостит у вас,
Прощается и в ночь уходит.
А если он уходит днем,
Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.
Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.
Но на смену 60-м, с их пьянящей свободой, пришли другие времена, 70-е, а Шпаликов так и остался художником своих любимых 60-х.
..Я ужасно сентиментален, и это неистребимо во мне, как грусть. ..Время безжалостно, я знаю это и стараюсь улыбаться, когда мне совсем не хочется улыбаться, и говорю не те слова, какие нужно говорить. А какие нужно? Я забыл эти слова. Меня пугает равнодушие времени и чужие люди. Чем дальше, тем больше чужих, и некому поклониться, и не с кем уйти. Я ужасно сентиментален, и я бы плакал, прислонившись к плечу друга, но я не могу плакать и смотрю, смотрю спокойными глазами на пустоту вокруг.
Что будет потом? Я не хочу думать.

Все чаще его стали посещать тяжелые мысли.

И осенью 1974 он свел свои счеты с жизнью. Было ему тогда всего 37 лет.
Рядом была записка:
А последним стихотворением, которое он написал,и которое нашли уже после его смерти, было такое:
Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывая ничего,
Покидаю вас и покидываю,
Дорогие мои, всего!
Все прощание — в одиночку,
Напоследок — не верещать.
Завещаю вам только дочку —
Больше нечего завещать.
Один из самых его близких друзей – Виктор Некрасов, писал:

Читайте также:

