Евангельские мотивы в творчестве достоевского сочинение
Обновлено: 05.07.2024
Руку простри над моею темницей,
Господи! Сирую душу мою
Ты осени милосердной десницей!
Господи! Боже! К тебе вопию…
Россия в середине XIX века характеризуется напряженностью и сложностью обстановки. Атмосфера идейного бездорожья и социальной расшатанности угрожающе влияла на общество. Развивалась общественная болезнь.
Ф.М. Достоевского заслуживает наибольшего внимания, так как он предлагает миролюбивые, гуманные пути выхода из сложившегося положения.
Евангельское слово – это кладезь богопознания и тысячелетней мудрости, нравственного опыта и непревзойдённый образец художественной речи. Это то, что внесло в словесность высшее начало и дало особый строй мысли и речи в произведениях многих поэтов и писателей таких, как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский.
Наиболее сильное впечатление на меня произвели романы
совестливость и уважение к ближнему, формирует высочайшую планку личности.
Все переживания, которые мучили Раскольникова, оказались великим благом, ибо из них рождается чудо воскрешения. Нет, той темной силы, которая толкнула его на преступление, силы мысли, допущенной героем, уже нет, она вытеснена из души силой любви, которой помогла зародиться, укрепиться и вырасти в его душе Соня. Раскольникова спасает, вытягивает из рутины именно она.
Архитектура данного романа очень интересна. Он состоит из двух частей. Первая часть есть некая исходная ситуация, предполагающая по своему смыслу развитие, изменение; вторая – самое это изменение. Обе части имеют евангельское происхождение и существуют как художественное освоение двух притч. Я хотела бы остановиться на библейском происхождении первой части романа.
Я считаю, князь Мышкин – примиритель, противостоящий всеобщему разъединению. Идеальное общество в его представлении – это мир, в котором царствуют милосердие сильных и благодарность слабых.
Мышкин, в отличие от всех окружающих, способен постичь самые глубинные, скрытые от посторонних глаз движения души чужого человека. Поэтому на каждого он действует, сам того не подразумевая, обновляющее и исциляюще. С ним все становятся чище и откровеннее.
Может быть, кому-нибудь этот роман и не понравится после беглого, невдумчивого чтения, но уж точно не оставит равнодушными тех, кто вчитывается в строки, пытается разобраться в жизни героев. Какова причина такого влияния этого очень непростого романа на читателей? Я думаю, что Ф. М. Достоевский стремился донести до нас свой особый психологизм и дать нам пищу для размышлений. Его интересовала не абстрактная идея, а истина, которая выстрадана героем и пропущена им через душу, через сердце.
Что бы ни сделал человек, как бы ни прятал свои преступления, кара всё равно настигнет его, ведь она исходит не от земных судей, а от того светлого и доброго, что заложено Богом в каждом из нас. После содеянного моральное состояние Раскольникова резко приходит в норму. Он понимает, что ему придётся жить с клеймом убийцы до конца своей жизни, его начинают мучить кошмары. И родственники, и друзья то и дело пытались поговорить с ним. Однако толкового разговора добилась только Сонечка Мармеладова, именно ей Родион сознаётся в преступлении, именно она становится источником его духовного исцеления. В повествовании рассказывается, что при встрече с Соней Раскольникова "вдруг что-то как бы подхватило и как бы бросило к её ногам". Причём, он "сам не знал, как это случилось". Именно "вечная Сонечка" направила его на путь истинный.
Софья Семёновна осуждает Раскольникова за презрение к людям. Она олицетворяет христианскую веру: терпение и смирение, безмерную любовь к Богу и человеку.
«- Есть ли на тебе крест? – вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила…
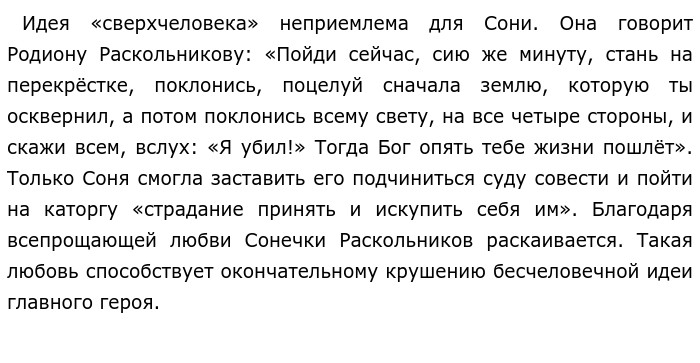
После ужасного злодеяния Родион Раскольников задумывается о воскресении собственной души, он просит Соню прочитать о воскресении Лазаря, именно этому персонажу библейского сказания уподобляется герой на страницах романа. Лазаря похоронили, но Иисус воскресил его. Родион тоже был мёртв, мёртв духовно, но отправляясь на каторгу он становится на путь духовного возрождения.
Мы видим, что Раскольников отрекается от своей бесчеловечной теории и становится на путь воскрешения души. Он обращается к вере, которая спасёт его измученную душу и поможет обрести надежду на спасение. Родион возвращается к тому, от чего отошёл. Он возвращается к Богу и человечности. Он нашёл себя в христианском смирении.
Роман Ф. М. Достоевского приводит понимающего читателя к осознанию того, что человечность и гармонию можно обрести только через духовное самосовершенствование, через внутренние изменения, которые могут произойти только в душе христианина под влиянием глубокой веры в Бога.
Достоевский был очень набожным человеком. Его религиозный путь был напряженным, воззрения неоднократно менялись, а вера прошла через многие сомнения. Во многом поэтому главный герой романа проходит тяжелый путь от безверия к вере, то есть одной из центральных идей в романе “Преступление и наказание” можно назвать идею обновления, поиска Бога и нравственного очищения.
Роман Достоевского буквально пронизан евангельскими сюжетами, образами и символикой.
Уже в названии отражено нарушение заповеди “не убий”, а завязка сюжета романа – убийство Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы.
В основе произведения лежат евангельские заповеди и идеи.
Художественное мастерство автора держит читателей в напряжении. В произведении не просто рассказывается о состоянии преступника – вместе с героем читатель ощущает неотвратимость расплаты за содеянное зло. Раскольников в самом себе несет наказание за преступление, потому что душа не терпит духовного насилия над собой: “Разве я старушонку убил?
Я себя убил, а не старушонку!” – так проявляется мотив
нравственного самоубийства героя, преступившего христианскую заповедь. Еще до убийства, в самом начале романа, Раскольников предчувствует муки наказания, о чем свидетельствует первый сон героя, а после содеянного нравственные и физические страдания он переживает на протяжении всего произведения. Но Раскольникова ожидает не столько возмездие, сколько глубокое покаяние, участие в котором примут самые близкие ему люди.
Прозрение героя наступает в эпилоге: “Как это случилось, он и сам не знал он любит, бесконечно любит ее и что настала же наконец эта минута Их воскресила любовь”.
Центральная идея христианства – любовь к ближнему. В начале романа главный герой не откликается ни на любовь матери и сестры, ни на заботу Разумихина. Но на протяжении произведения происходит трансформация героя: он начинает более тонко чувствовать мир и людей, а в конце романа любит по- настоящему.
Возникает вопрос: за что Сонечка Мармеладова полюбила Раскольникова, заставила признаться в преступлении, посвятила ему свою жизнь, навещала на каторге? Ответ прост: она любит образ Христа в человеке, для нее человек, созданный по образу и подобию Божию, изначально хорош, поэтому она, узнав настоящую, живую душу Раскольникова, полную страдания и раскаяния, всячески поддерживает его, принося себя в жертву.
Мотивы страдания и сострадания как основы христианского сознания можно проследить на протяжении всего романа. Многие герои “Преступления и наказания” страдают осознанно. Например, Мармеладов женился из жалости на несчастной благородной вдове с тремя детьми, хотя понимал, что не сможет сделать ее счастливой. Его слова “меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть!” говорят читателю о том, что герой ощущает собственную греховность и вину за жизнь своей семьи, а потому готов к величайшей жертве, вспоминая казнь Христа.
Готовый пожертвовать собой, он ждет от окружающих того, во имя чего испытал страдания Иисус – исцеления человечества, готового прощать и жалеть.
Красильщик Миколка, взявший на себя чужую вину, решает “страдание принять”, так как считает, что страдания облагораживают человека, очищают и приближают к Богу. Раскольников искупает страданием свое преступление и лишь на каторге чувствует духовное возрождение.
Очень важна символика чисел в романе, так как и здесь видны евангельские мотивы. Число “три” встречается в романе много раз: за 30 тысяч выкупила Свидригайлова Марфа Петровна; 30 копеек дала Соня Мармеладову на похмелье; три тысячи рублей Дуне не оставила Марфа Петровна. Во второй главе первой части Мармеладов говорит Раскольникову, что Соня “тридцать целковых молча выложила” Катерине Ивановне.
Эти тридцать целковых, очевидно, напомнили Мармеладову тридцать сребреников, которые, согласно Евангелию, Иуда получил за предательство Христа.
В той же главе встречается еще одно важное число – “одиннадцать”: в одиннадцатом часу идет главный герой к Мармеладовым, уходит от умершего Мармеладова, приходит к Соне, а затем – к Порфирию Петровичу. Здесь можно увидеть сходство с евангельской притчей о том, как хозяин виноградников вышел утром нанимать работников. Он нанимал их целый день, а вечером, когда пришло время раздавать плату, выяснилось, что и тем, кто проработал целый день, и тем, кто проработал всего час, хозяин заплатит одинаково.
Когда первые начали роптать, хозяин сказал: “Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных”.
В религиозном смысле расплата – наступление Царства Божьего, и автор этим подчеркивает, что Раскольникову еще не поздно признаться и покаяться.
В пятой главе той же части появляется еще одно очень символичное число романа – “семь”: произведение состоит из семи частей (6 частей и эпилог); Раскольников совершил преступление в семь часов; семь лет прожил Свидригайлов со своей женой; 730 шагов от дома Раскольникова до дома старухи. В евангельской символике число “семь” – символ святости, соединение божественного числа “три” с числом “четыре”, символизирующим мировой порядок и, кстати, также немаловажным в произведении: четыре дня Раскольников провел в болезни; на четвертый день Соня читает ему о воскрешении Лазаря, которое произошло через четыре дня после его смерти; в IV главе четвертой части Соня и Раскольников встречаются. Получается, что число “семь” – как бы союз Бога и человека.
Эпизод в эпилоге, когда на каторге “они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней” перекликается с библейской историей про Рахиль и Иакова: “И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее” (Быт. 29:20).
Возвращаясь к эпизоду, когда Соня читает Раскольникову Евангелие, можно сказать, что связь между Лазарем и главным героем прослеживается на протяжении всего романа: комната Раскольникова напоминает гроб, а убийство старухи – нравственная смерть героя; слова “ибо четыре дня, как он во гробе” (Ин. 11:17) становятся метафорой душевных и физических мук героя. Но, наверное, самое главное – это то, что Раскольникова, как и Лазаря, ждет воскрешение благодаря любви и вере ближнего.
Сам Достоевский о годах своей каторги писал так: “те четыре года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу”, а “выход из каторги представлялся как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь”.
В IV главе пятой части романа читатель встречает еще один важный момент – обмен крестами. Соня, упрашивая Раскольникова взять крестик, говорит: “Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе”, – таким образом Соня как бы приняла жертвенную судьбу Лизаветы. Крест, который она предлагает Раскольникову, символизирует готовность Сони принести себя в жертву: “. вместе и крест понесем!”, – говорит она ему.
Раскольников, приняв крест, сделал бы, сам того не осознавая, первый шаг к своему будущему очищению и воскрешению, но он лишь отмахивается от этого предложения.
Дети в “Преступлении и наказании” получают роль невольных миссионеров. Поленька смягчает убийцу, возрождает в нем жажду жизни, когда обещает молиться за него. В романе есть фраза “А ведь дети – образ Христов”. Она означает, что в детях сохраняется образ Божий, который во взрослых искажен грехами.
В IV главе пятой части Достоевский говорит, что Раскольников смотрит на Соню “с тою же детскою улыбкой”, автор хочет подчеркнуть, что в “детскости” души героя он видит его спасение. У детей нет самолюбия, разницы между внутренним и внешним, во многих героях Достоевского сохранены детские черты: некая детскость есть в поведении Лизаветы, в облике Сони – глубоко верующего человека, мыслящего православными категориями, не смеющего осуждать других и во всем видящего Божий умысел. Достоевский считал, что кротость и смирение, присутствующие и в Сонечке, и в Лизавете, очень важны, так как человек, наделенный этими качествами, не держит зла на тех, кто его обижает, сохраняет свой внутренний мир в гармонии, не допускает зла до своей души.
Достоевский открывал новые евангельские глубины, христианскую диалектику, позволяющую в преступнике увидеть раскаявшегося христианина, а в проститутке – духовную чистоту “вечной Сонечки, на которой мир стоит”.
Подобные противоречия, порождающие основательную неразбериху, возникают из-за того, что вопрос о роли Евангелия в творчестве Достоевского раскрывается в отрыве от законов художественного мира писателя, от его художественной логики, обусловленной его мировосприятием. Только уяснив эту логику, можно ответить, как и для чего евангельский текст входит в произведения Достоевского.
Восемнадцатилетним юношей Достоевский писал брату, что человек есть тайна, разгадыванию которой он хочет посвятить свою жизнь. Тайна, потому что не ограничивается "насущным видимо-текущим" (23;145) [1] , которое одно лишь знакомо "реализму", ограничивающемуся кончиком своего носа, и которым "сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь" (28, кн.2; 329). Их объяснение открывается "реализму в высшем смысле" (как Достоевский называл свой творческий метод), направленному на изображение "глубин души человеческой", на то, чтобы найти "в человеке человека" (27;65). В этих глубинах, в этом невидимом внутреннем человеке уже семнадцатилетним юношей будущий писатель обнаруживал свидетельства, что, как образно выразился тогда еще студент Инженерного училища, мир наш - чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию. В полудетском высказывании четко обозначилось представление о земном человеческом существовании как о переходном состоянии и взыскании небесного Отечества. Именно в таком смысле Достоевский затем скажет, что "человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим" (24;247), а герой его последнего романа "Братья Карамазовы", старец Зосима, - что "многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных" (14;200). Но одновременно молодым Достоевским выражено и видение "отуманенности грешною мыслию", заволакивающей дороги к "мирам иным" небесного Отечества, пропитанности "глубин души человеческой" злом до такой степени, что, по словам апостола Павла, добро, коего хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю.
Действие зла, разъедающего внутреннего "человека в человеке", выявлено Достоевским столь выпукло и впечатляюще, что писателя и по сей день часто упрекают в "жестокости таланта" и "патологичности" копания в "грязном белье" человеческой души. Подобные упреки выдают тип сознания, совершенно не воспринимающего сформулированный философом Вл. Соловьевым в одной из статей о Достоевском вывод: "Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, - пока эта темная основа у нас налицо - не обращена - и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос "что делать" не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу людей слепых, глухих, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления". [2]
Применительно к Достоевскому речь может идти не о патологичности, а ровным счетом наоборот, о полноте и адекватности, неусеченности видения им человеческой натуры, в силу которого он был одним из самых резких и принципиальных критиков утопического мировосприятия, порождающего социалистические проекты и невнятные гуманистические теории. Мир "во зле лежит" гораздо основательнее, чем думают "лекаря социалисты". Поэтому и произошло в этом мире Событие, выраженное тремя евангельскими словами и являющееся точкой отсчета в художественном пространстве Достоевского: "Слово плоть бысть" (Ин.1, 14).
У Достоевского есть запись: "Христос весь вошел в человечество" [3] . Свидетельство о безмерном чуде воплощения Бога, о присутствии в человечестве "сияющей личности Христа" даже важнее для писателя в Евангелии, чем само евангельское учение, поскольку только реальное соединение Бога и человека, а не учение само по себе, дает возможность реального, а не утопически-иллюзорного избавления от бесконечно множащегося греха и смерти (Достоевский говорил о христианстве как о доказательстве, что в человеке может вместиться Бог). Как отмечает философ Н.О. Лосский в своем объемном исследовании "Достоевский и его христианское миропонимание", "зло эгоистического себялюбия так проникает всю природу падшего человека, что для избавления от него недостаточно иметь перед собою пример жизни Иисуса Христа; нужна еще такая тесная связь природы Христа и мира, чтобы благодатная сила Христа сочеталась с силою человека, свободно и любовно стремящегося к добру, и совместно с ним осуществляла преображение человека" [4] .
На протяжении всей жизни Достоевскому сопутствовало личное непосредственное ощущение присутствия Христа в земном человеческом существовании, осмысляющего и возводящего это существование к его небесной цели-итогу. Исследователями творчества Достоевского часто вспоминаются слова из "Дневника писателя" за 1873 год, передающие споры Достоевского с Белинским, когда последний "бросился обращать" его "в свою веру". "Мне даже умилительно смотреть на него, - пересказывает Достоевский реплику о нем Белинского, - каждый-то раз, когда я вот так поияну Христа (что Его "требования" к человеку "нелепы" и "жестоки" - Ф.Т.), у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. " (21;10 - 11). Этот эпизод красноречиво свидетельствует, что "пресветлый лик Богочеловека" для Достоевского - вовсе не риторическая фигура, как свидетельствует и диалог с Достоевским, переданный писательницей В.В. Тимофеевой (О. Починковской):
- ". Стремитесь всегда к самому высшему идеалу! Разжигайте это стремление в себе, как костер! Чтобы всегда пылал душевный огонь. Идея-то ваша какая?
- Идеал один. для того, кто знает Евангелие.
- Но как же вы понимаете Евангелие? Его ведь разно толкуют. Как по-вашему: в чем вся главная суть.
- Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей.
- И только? - тоном разочарования протянул он.
Мне самой показалось этого мало.
- Нет, и еще. Не все кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная - только ступень. в иные существования.
- К мирам иным! - восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо.
- И какая это дивная, хоть и трагическая задача - говорить это людям! - с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукою. - Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много. Много мучений, но зато - сколько величия! Ни с чем не сравнимого. То есть решительно ни с чем! Ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя. " [5]
Итак, исходный принцип непосредственного мировосприятия Достоевского, легший в основу его художественного творчества, - разворачивание земного человеческого существования перед лицом "миров иных", причем не абстрактного, слепого и немого "другого измерения", а конкретно пред живым "пресветлым ликом Богочеловека". (Именно этим живым чувством, а не установкой представить Бога лишь положительно прекрасной личностью, продиктован тот сложившийся у Достоевского "символ веры", о котором он поведал по выходе из каторги Н.Д. Фонвизиной, благословившей его в свое время на крестный путь каторжника Евангелием, единственной книгой, разрешенной в остроге: "Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен, в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной".)
Такое восприятие мира как предстоящего пред Христом, или, иначе, несущего на себе отпечаток Его присутствия, конечно, существенно корректирует формализованное М.М. Бахтиным в его популярнейшей ныне монографии о проблемах поэтики Достоевского понятие "пороговости", которое при переводе из физического пространства в личностное обозначается им термином "полифонии" - множественности самостоятельных голосов, взаимодействующих друг с другом в диалоге. По Бахтину, "порог" - граница миров "я" и "другого", причем "другой" - непременно "чужой", потенциальный или реальный соперник, враг. Диалог, происходящий на этой границе и раскрывающий, как считает Бахтин, "глубины души человеческой", по существу сводится у исследователя поэтики Достоевского к дурной бесконечности отстаивания за собой последнего слова перед лицом этого другого-чужого-врага (грубо говоря, кто последний скажет "сам дурак").
Ясно, что у Достоевского - принципиально иное мировидение, поскольку "другой" - это Бог, это Христос, и Он не может быть "чужим", т.к. "весь вошел в человечество", т.к. Он - в самой сокровенной "глубине души человеческой" (ср.: Царство Божие внутрь вас есть" - Лк.17,21). Для Него нет ничего тайного, что не было бы явным, Ему известны и "концы и начала" человеческой жизни, открывающейся не как дурная бесконечность бессвязных, нагромождающихся друг на друга происшествий ("реплик" бахтинского "диалога"), а как единый связный контекст, как высказывание - ответ на Слово, которое "плоть бысть" и "в мире бысть".
То, что происходит в человеческой жизни и что изображает Достоевский, - не происшествие-случай, а событие - в глубоком смысле этого слова, со-бытие, совершение человеческого бытия, поступка, слова - в присутствии Христова бытия, стремление к увиденности во Христе.
Чтобы ярче представить, как Достоевский различал событие и происшествие, можно обратиться к двум его высказываниям. Одно из них - в письме А.Н. Майкову из Флоренции от 15/27 мая 1869г.: речь идет о желании воспроизвести всю русскую историю, отмечая в ней те точки, в которых она как бы сосредотачивалась и выражалась сразу во всем своем целом. Другое - в "Дневнике писателя" за 1873 год, в заметке "По поводу выставки": ". у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно не та, что текущая (жанр), - именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите у каждого психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие. завершенное, историческое. то событие непременно представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется "идеальничать", что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает. смешать обе действительности - историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей "Тайной вечери", например. он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, - но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, Которого мы знаем. К Учителю бросились Его друзья утешать Его; но спрашивается: где же и причем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?" [6]
Событие - это и есть "нечто колоссальное", происшествие, взятое с его "концами и началами", колоссальное потому, что есть действие-ответ по отношению ко Христу (можно вспомнить слова Христа: что сделал одному из малых сих, то Мне сделал), есть действие в масштабах вечности. Потому и говорит один из героев "Братьев Карамазовых", что "все за всех виноваты", что малый человеческий поступок есть серьезное, грандиозное событие в измерении вечности. Достоевский любил показывать это в снах героев: будь то сон "смешного человека", в котором обида, нанесенная маленькой нищей девочке, превращается в мировую катастрофу целой планеты, развратившейся и потерявшей свою райскую жизнь; будь то "апокалиптический" сон Раскольникова на каторге, когда его "новое слово" становится войной всех против всех; или, в раннем творчестве, кошмарный сон Голядкина: герой видит себя бросившимся бежать без оглядки куда глаза глядят, но с каждым шагом выскакивало как будто из-под земли по такому же точно господину Голядкину, и все они тотчас пускались бежать один за другим и "длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных" (1;184 - 187).
Итак, смысл присутствия евангельского текста в художественных произведениях Достоевского, как теперь можно обозначить, - в том, что он делает "происшествия", случающиеся с героями, "событиями", происходящими пред лицом Христа, в присутствии Христа, как ответ Христу. Понятно, что именно евангельский текст, свидетельствующий о земном пребывании Бога в человеческом мире, может внести и вносит в сюжет произведений Достоевского некий метасюжет, новое измерение, делающее художественное пространство, условно говоря, из плоского объемным, или, по-другому, обозначая своим смыслом бытийный уровень той глубины, помещая на которую свой сюжет, писатель и строит видение во Христе, изображение реального пребывания Христа в человеческом существовании.
Та задача, которой служит евангельский текст у Достоевского, объясняет и то, как он служит, как те или иные евангельские сюжеты и события взаимодействуют с сюжетами художественных произведений. Самое важное здесь - избежать соблазна представить это взаимодействие в виде воплощения литературными средствами евангельской прототипической ситуации. Именно на такой крючок попадается огромное количество исследователей, следующих по дороге, проторенной рядом философов Серебряного века (прежде всего Н. Бердяевым) и затем М. Бахтиным, чья концепция поэтики Достоевского легко накладывается на их философскую схему.
Если идти по этой дороге, то неизбежно приходишь к заключению, что евангельский текст - лишь архетипическая модель, сценарий, по которому играется героями сюжет произведения. Здесь не может быть речи об изображении реального присутствия Христа в человеческом существовании, Христос - лишь один из прототипов, поведенческий пример. Более того, имея в уме бахтинскую идею карнавала и веселой относительности, вполне можно завести речь о профанирующем пространстве произведений Достоевского, что и происходит. Например, воскресение главного героя "Преступления и наказания" Раскольникова едва намечено и отнюдь не столь очевидно, как воскресение Лазаря четверодневного. Князь Мышкин в романе "Идиот" совсем не воздвигает к новой жизни "блудницу" Настасью Филипповну, которая сама оказывается "некающейся Магдалиной". Или, скажем, генерал Пралинский в повести "Скверный анекдот" не умножает радость на свадебном пире своего бедного подчиненного Пселдонимова, как Христос в Кане Галилейской, а напротив, заставляет Пселдонимова, образно говоря, выпить чашу "желчи и оцта". А в "Братьях Карамазовых", последнем романе Достоевского, "блудные сыны", братья Карамазовы, возвращаются к отцу, который не только не прощает их, но и сам оказывается "блудным" почище их.
Однако такая логика неизбежно заводит в тупик, поскольку получается, что в одном произведении один и тот же герой воплощает одновременно разных участников единой евангельской протоситуации, часто разведенных в этой ситуации по противоположным полюсам. В том же "Преступлении и наказании" образ воскресения Раскольникова действительно связан с евангельским повествованием о воскрешении Лазаря Христом, которое читает Раскольникову Соня. Сама же Соня при чтении мысленно сравнивает его с иудеями, присутствовавшими при совершении неслыханного чуда воскрешения уже смердящего Лазаря и уверовавшими во Христа. А в конце романа, когда Соня издали сопровождает Раскольникова, отправившегося в свой крестный путь - добровольно признаться в совершенном им преступлении и понести соответствующее наказание, главный герой явно сопоставляется со Христом, за которым на Его крестном пути издали следовали жены-мироносицы. Т.е. получается, что герой романа воплощает сразу все три принципиально различающихся типа, составляющих евангельскую протоситуацию воскрешения Лазаря: и самого Лазаря, и сомневавшихся иудеев, и, не много не мало, даже Христа.
Подобные тупики закономерны, поскольку Достоевский не играет в новое воплощение Христа или в новое художественно-литературное Евангелие, а свидетельствует о реальном предстоянии человеческой жизни пред Христом, о реальном, хотя подчас и не ощущаемом присутствии Христа в ней. Указание же на эту реальность возможно не в умножении портретных, сюжетных или иных детальных сходств, практически всегда сугубо внешних и, как можно было убедиться, порою противоречащих друг другу, а в том, что взаимодействие героев произведения в своем развитии формирует глубинный смысл, словесно выраженный в том или ином евангельском тексте, фрагменте, на который это развивающееся взаимодействие и "наводит" читательское сознание. Такой принцип можно в определенном отношении сравнить со знаменитой картиной А. Иванова "Явление Христа народу": внутреннее движение, проходящее по толпе, данной крупно на переднем плане, направляет к тому расположенному в глубине, на втором плане, центру, где издали виднеется фигура приближающегося Христа. Или, говоря словами митрополита Антония (Храповицкого), ". этот крест благоразумного разбойника, или, напротив, разбойника-хулителя, - вот что описывал Достоевский, а читатель уже сам выводит отсюда, если не желает противиться разуму и совести, что между двумя различными крестами непременно должен быть третий, на который один разбойник уповает и спасается, а другой изрыгает хулы и погибает. ". [7]
Последнее время все больше стали говорить и писать о религии, о вере в Бога. У нас в школе на уроках литературы стали появляться темы, связанные с библейскими мотивами и образами в художественных произведениях. Идеями христианства пронизано творчество многих выдающихся писателей. Библейскими легендами, образами наполнены произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. И это не случайно, потому что в Библии речь идет о добре и зле, правде и лжи, о том, как жить и умирать. Недаром её называют Книгой Книг.
Читая произведения Достоевского, я обратил внимание на то, что они наполнены различными символами, ассоциациями. Огромное место среди них занимают мотивы и образы, заимствованные из Библии. Так, Раскольникову в романе "Преступление и наказание" грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве. О конце времен пророчествует "профессор Антихриста" Лебедев.
Предсказания и мифы Достоевский вводит в свои произведения для того, чтобы предостеречь человечество, стоящее на пороге глобальной катастрофы, Страшного суда, конца света. Герой романа "Бесы" Степан Трофимович Верховенский, переосмысливая евангельскую легенду, приходит к выводу: "Это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!"
Для Достоевского использование библейских мифов и образов — не самоцель. Они служили иллюстрациями для его размышлений о трагических судьбах мира и России как части мировой цивилизации. Видел ли писатель пути, ведущие к оздоровлению общества, к смягчению нравов, к терпимости и милосердию? Безусловно. Залогом возрождения России он считал обращение к идее Христа. Тема духовного воскрешения личности, которую Достоевский считал главной в литературе, пронизывает все его произведения.
Одним из ключевых эпизодов "Преступления и наказания" является тот, в котором Соня Мармеладова читает Раскольникову библейскую легенду о возвращении к жизни Лазаря. Раскольников совершил злодеяние, он должен "уверовать" и покаяться. Это и будет его духовным очищением.
Герой обращается к Евангелию и должен, по мысли Достоевского, найти там ответы на мучающие его вопросы, должен постепенно переродиться, перейти в новую для него действительность. Достоевский проводит идею, что человек, совершивший грех, способен духовно воскреснуть, если уверует в Христа и примет его нравственные заповеди.
О вере говорится и з легенде о Фоме, которая появляется в "Братьях Карамазовых". Апостол Фома поверил в воскрешение Христа только после того, как увидел все своими глазами и вложил свои пальцы в раны от гвоздей на руках Иисуса. Но Достоевский убежден, что не чудо заставило Фому уверовать, ибо не чудо вызывает веру, а вера способствует появлению чуда. Поэтому, рассуждает писатель, и возрождение человека происходит не под влиянием некоего внешнего мистического чуда, а благодаря глубинной вере в истинность подвига Христа.
Христос не просто библейский образ в произведениях Достоевского. Писатель сознательно наделяет князя Мышкина в романе "Идиот" чертами Иисуса. В романе "Братья Карамазовы" Ивану Карамазову видится пришествие Христа. "Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят".
Эти нравственные принципы исповедуют многие персонажи Достоевского, вставшие на путь духовного возрождения. Основной нравственный принцип счастливых людей, по Достоевскому, заключается в следующих словах: "Главное — люби других, как себя. "
Духовное возрождение через сострадательную любовь и деятельность — такова философская концепция Достоевского. И для раскрытия ее автор использует мифы и образы, заимствованные из Библии.
Читайте также:

