Беньямин к критике насилия кратко
Обновлено: 02.07.2024
Согласно Беньямину правовое насилие всегда противоречиво. В правовой системе насилие всегда есть средство достижения цели. Это ставит неизменный вопрос – правомерно ли это средство, даже если цель благая. Для Беньямина этот вопрос неразрешим в пределах правового поля, и потому фатальной ошибкой являются теория справедливой войны и теории легитимации.
Теории естественного права не видят противоречия, поскольку считают, что народ располагает неограниченным правом применять насилие до заключения общественного договора. Эти теоретики видят цели, которые оправдывают средства. Правовой позитивизм видит насилие как историческое, позволяя критиковать применяемые средства. Оба подхода некорректны в увязывании средств с целями. Они базируются на различении между оправданным и неоправданном насилии. Для Беньямина насилие это не просто средство ведущее к цели.
Таким образом, угроза, ощущаемая государством со стороны вне-правового насилия не угрожает целям государства. Это ощущается как угроза со стороны вне-правового насилия в отношении самого закона. Согласно Беньямину, отсюда следует, что лучшим основанием для критики государства является тот аспект насилия, которого государство боится. Беньямин видит неэффективность ряда подходов к критике государства включая обращение к желанию, моральную критику и критику, базирующуюся на свободе.
Государство стремится провести границу между законом и насилием, при этом закон помещается в сферу правильного и не-насильственного социального порядка. Вот почему, по Беньямину, даже безоговорочные военные победы сопровождаются церемониями подписания мира. Государство боится насилия, поскольку насилие показывает, что наличный порядок не установлен судьбой. Ставить под сомнение или нарушать всякий отдельный закон означает отрицать, что закон установлен судьбой. Именно поэтому государство безрассудно защищает всякий отдельный закон, который подвергается критике или нарушается. Если закон структурирован сложным образом, судьба непременно сингулярна. Если хотя бы один закон не совпадает с судьбой, то это распространяется и на право в целом.
Можно также рассмотреть идею защиты людей от рисков. Запрет насилия означает повышение безопасности людей, снижение риска стать случайной жертвой (благая цель). Но вместо этого, люди сталкиваются с риском неоправданного обвинения, или потери само-контроля в неподходящий момент. Это ведет к риску оказаться под атакой сил государства, и этот фатальный итог лишает смысла движение к благой цели.
Это частные примеры, когда закон способен производить несправедливость подобную той которую он запрещает. Однако для Беньямина этот тип примеров универсальным образом распространяется на всякий закон. Все законы навязывают режим судьбы, поскольку судьи игнорируют действительные причины поступков и не учитывают страдания при наказании за них. Это подразумевает представление о мире, где люди оказываются игрушкой судьбы и фаталистического порядка. И такое видение мира не имеет ничего общего с движением к благим целям. Использовать закон для достижения благих целей всё равно, что применять капитализм для достижения равенства или огонь для охлаждения. Здесь содержится что-то вроде метафизической цели, мировоззрения или силы, противоречащей декларируемым целям, для которых она предназначена. Тем не менее, поскольку правовое насилие всегда выступает орудием, оно всегда располагает такими понятными целями – оно не может существовать исключительно как судьба. Оно всегда логически противоречиво .
Беньямин также намекает на более дальнее противоречие. Закон подразумевает и требует своей собственной трансгрессии. Чтобы существовать, он опирается на девиантное поведение. Режим судьбы устроен так, что производит те самые проступки, которые сам запрещает. Тождественность мифического насилия и правового насилия указывает на деструктивный характер правового насилия, его разрушающую преопределенность.
Беньямин различает три типа насилия: право-устанавливающее насилие, право-поддерживающее насилие и право-разрушающее насилие – а также поддержание порядка, создающее зону неопределенности между первыми двумя типами и не-насилием.
Право-поддерживающее насилие имеет место, когда насилие используется больше для следования к правовым целям, чем к естественным. Каковы же правовые цели? Беньямин отвергает идею устрашения, которая имела бы смысл в условиях полной определенности. Тем не менее, он подчеркивает, что право-поддерживающее насилие работает в режиме непрерывной угрозы. Это средство непосредственного поддержания явленности судьбы in situ.
Споры вокруг воинской повинности обнажают противоречия между этими двумя типами насилия ввиду нелепости использования право-поддерживающего насилия (набор в армию) для поддержания право-устанавливающего насилия (война). Споры о смертной казни имеют своим истоком очевидный характер происхождения закона в этой практике. Судьба являет себя в вынесении решения кому жить а кому умереть. Понимание этого фаталистического истока права сегодня приводит к его деградации.
Право-поддерживающее насилие парадоксальным образом ослабляет насилие право-устанавливающее, которое лежит в его основании, поскольку пресекает иные варианты право-устанавливающего насилия. К примеру, когда американское государство препятствует насильственному занятию земли, оно неявно подрывает собственное основание – насильственную оккупацию американского континента переселенцами. В конечном счете это также разрушает право-поддерживающее насилие. Правовые институты разлагаются, когда их скрытая опора на насилие исчезает. Именно поэтому, считает Беньямин, парламенты находятся в упадке.
Право-поддерживающее насилие также всегда носит временный характер, поскольку постепенно новая или подавляемая сила проявится, чтобы произвести новый закон. Здесь Беньямин поддерживает цикличный образ власти, разделяемый таким автором как ибн Хальдун, что отличается от модернистского подхода. Он видит как правовые порядки сменяют друг друга в мифическом цикле. Однако , он одновременно пытается этот цикл разорвать .
Всякие право-устанавливающее, право-поддерживающее и полицейское виды насилия сплетаются в проблеме природы права и потому пагубны.
Беньямин утверждает, что не-насильственное разрешение конфликта вполне возможно, но никогда не способно положить в основание правовой договор. Причина в том, что всякое такое разрешение конфликта не предусматривает возможности возвращения к насилию в случае нарушения соглашения.
Беньямин верит, что право-разрушающее насилие - это тип насилия, который разрушит режим судьбы. Для Беньямина примером такого рода насилия является синдикалистская концепция всеобщей революционной забастовки, в особенности предложенная Сорелем. Сегодня наиболее созвучной этой мысли может быть повстанческая идея всеобщей революции, разрушающей доминантную структуру или пост-автономистская идея ухода.
Право-разрушающее насилие связано с сакральным (и справедливостью), и является антитезой мифическому (а также судьбы/закона). Сакральное насилие скорее разрушает границы, нежели их создает. Оно искупает вину, а не мстит за неё. Даже разрушая и убивая, оно одновременно искупает. Оно завершает господство закона над живым. Оно не похоже на мифическое/правовое насилие, поскольку никогда не разрушает душу.
Задача право-разрушающего насилия – ликвидировать власть государства и, следовательно, устранить право-поддерживающее насилие. Право-устанавливающее насилие концентрирует или распределяет власть, право-поддерживающее насилие сохраняет концентрацию или распределение, право-разрушающее насилие рассеивает власть. Похоже оно стремится взломать все виды иерархий. Согласно Сорелю, в момент такого восстания все планы и утопические проекции исчезают. Это происходит потому, что восстание не полагает их в качестве частного закона. Право-разрушающее насилие будто стремится стать звеном в ряду с мессианизмом, иллюминатством, искуплением, аллегорией, коллажем. Оно взламывает , сотрясает и переустраивает существующие отношения .
Конец государственной власти и закона откроют новую историческую эпоху. По Беньямину тот факт, что правление мифа подрывается девиантным поведением, указывает на скорую кончину права. Однако, во многих случаях невозможно увидеть имеет ли место право-разрушающее насилие. Причиной тому – невидимый характер искупительной мощи право-разрушающего насилия.
Однако здесь следует быть аккуратным, поскольку экспрессивное и инструментальное могут смешиваться в определенных типах индивидуальности, когда инструментализованная личность превращается в средоточие эмоций. Это ведет к сложностям, которые проявляются в установках на размывание-рассредоточение власти, что может вести к разрушению иллюзий у людей, стремящихся восстановить подлинно человеческие отношения. Но среди людей, структура личности которых является экспрессивной, гораздо более реальным представляется именно такой подход к насилию, нежели чем через парадоксы права.
Критика насилия осуществляется им до всех преступлений, вменяемых правовой власти, вовлекшейся в национал-социалистский проект (ведь Гитлер не отменил ни одного закона, существовавшего до него, не изменил ни одной строчки, за исключением известной поправки к конституции, согласно которой было запрещено принимать евреев на государственную службу), до того, как пришлось бежать коммунистам и евреям, до всех ужасов концентрационных лагерей. Можно только удивляться беньяминовской интуиции, которая, задолго до проявления правового насилия во всей его доступной и недоступной представлению полноте, предварила современную критику тоталитаризма — правовой формы насилия — второй половины ХХ в.
От желания справедливости к насилию критика
Жестко заданное Беньямином коловращение насилия заявляет о себе в момент установления Права и в процессе его воспроизводства. Тотальность и неустранимость мифического насилия может расколоть только то, что ему инородно, что судит из вневременного. По Беньямину, установление чистым насилием справедливости прерывает гегелевский ход истории такой ситуацией, в которой гнев иудейского бога (или, в угоду времени, — всеобщая забастовка) отменяет необходимость исторического процесса и универсальность римского права — проект европейского разума. Суд традиционной (в том числе и еврейской) общины, разрывая линейную историю и нарушая гомогенность демократического общества, возвращает (ветхо)заветное время. Воскрешается суд общины, традиции, безличного тела. Тот суд, у которого нельзя спросить, кто первым бросил камень. Все и никто, коллективное тело рода, руководствующееся ритуальными формулами суда — суда, построенного на представлении о симметрии ран, искупающих и очищающих от зла и нарушений установившегося порядка.
В итоге Беньямин редуцирует всю сферу значений насилия к нравственно-религиозной проблематике. Было бы естественно обвинить Беньямина в игнорировании целого пласта исследований о становлении права, о кровавых расплатах и жертвоприношениях, прекращенных развитием правового сознания, в волюнтаристической трактовке божественного насилия и многом другом. Все это так, но, одновременно, все это оказывается несущественным на фоне его интуиций, которые остаются актуальными в критике европейской цивилизации. Беньямин, опережая время, ставит под вопрос фундаментальные ценности западной культуры. Его отказ от рационально-правового проекта, его неприятие фундамента правового государства — правоустановления — неожиданным образом совпадают с критикой европо- и логоцентризма западной цивилизации, которая на рубеже тысячелетий вновь проблематизирует свои истоки.
Ощущение собственной чуждости имело и другую — позитивную — сторону, оно позволяло ему встать над ограниченностью взгляда национальной культуры и осознать свою миссию соединения различных культур, языков, наций. Отсюда же произрастает его внимание к переводам, осмыслению фигуры комментатора, к соединению разнородного, к эстетическим понятиям мимезиса и подобия. Власть символического капитала, которым обладает переводчик, критик и интерпретатор осознана им одним из первых. Ее обретению способствовал свежий взгляд свободного писателя и критика.
Критика и интерпретация. Жест. Имя. Автор
Истоки его подхода к критике насилия можно увидеть не только в специфике литературно-критического взгляда и иудейской традиции комментирования, но и в личных притязаних и внеличных обстоятельствах. Возможно ли проводить свою волю, реализовывать себя, если традиционные институты власти не оставляют надежды выстроить обычную карьеру ученого? Изживание этой травмы вылилось в утверждение сверхзначимости критики.
Актуальное дело критики (ко времени Беньямина критика разума жестко институционализирована) переносится им в область современного искусства и литературы. С одной стороны, такая критика искусства стала возможной потому, что оно само изменило свои функции, слившись с жизнью и разрушив дистанцию между политическим и художественным действием, а с другой стороны, Беньямин прежде других отнес к искусству то, что общественное мнение таковым (например, сюрреализм, дадаизм) не считало. То, что традиционно подлежало разбору, исследованию, оценке, было уже признано произведением искусства, было отвоевано художниками у предрассудков предшествующих поколений, стало легитимным 27 . Ведь в подходе традиционного критика парадоксальным образом полноценно существует лишь то, что было вчера, что находило отклик в предыдущем поколении, что в конце концов стало настоящим (читай: подлинным, признанным, музеефицированным) искусством. Интерпретатором же и художественным критиком нового поколения движет энергия, почерпнутая у провоцирующего, раздражающего и спорного искусства. Как заметил Р.Якобсон, новому искусству требуется новый тип критика, взгляд которого — это взгляд современника, взгляд изнутри.
Имя автора
Автор пишет и подписывается. Ставит знак. И чем значительней автор, тем больше он значит. Символический капитал добывают кровью — автор пишет кровью и кровь обнаруживает в изнанке букв. Ставит печать, присваивает и означивает. Открывает себя в своей воле к властвованию над материалом, над вниманием и временем читающего, над его проекцией и самоидентификацией. Актом самодеструкции — символически отсекая часть себя, выставляя обнаженным в своем желании и открытым критике, вызывающим, в полном соответствии с программой модернизма, — Беньямин делает жест художника. Ломая печать, сокрывающую тайну права, он ставит свой знак. Очевидно тайный. Интенция критики Беньямина вписывается в проект авангарда, поэтому подпись его осязаема, персонифицирована и доступна.
Беньямин, впустивший насилие в самое сердце своей критики, идентифицировавшись с ним, создает матрицу, которая будет воспроизводиться на протяжении всего ХХ века. Насилие, закодированное в критике Беньямина 31 , сделавшее из Вальтера Беньямина Walter'а, становится образцом, с которым будет соотносить себя — пусть и неосознанно — чуть ли не каждый добивающийся своих прав. Речевая фигура, провозглашающая чистоту насилия и его господство над теми, кто виновен в применении насилия как средства для существующего мифического права (и здесь Беньямин сообразуется с марксистской формулой об экспроприации экспроприаторов), являет собой насилие как обретение справедливости. Эта символическая речевая фигура воплощается позже в действии, в бессмысленной террористической акции, в аутодеструктивных жестах художников.
Критика и деконструкция
Институциональная власть критики и масс-медийная власть деконструкции
Деконструкция — это разоблачение ауры, разгадка тайны, девальвация искренности, разочарование в общем проекте. Она гасит любые проявления, десакрализует тайну и бьет точно в сердце жреца, отводя желание жертвы, отвращая ее. Но что может быть овратительнее слабости инстанции, продуцирующей власть, силу, боль и смысл? Лишь пустота 40 . Сегодня идеология буржуазно-либерального общества начинает ощущать себя чужой самой себе, обороняющей свое благополучие от натиска инородного. Чувствуя эту безысходность и слабость власти, попавшей под огонь критики и ощущающей себя цирковым фокусником, который вынужден показывать свой трюк, хотя знает, что тайна его разоблачена, люди стихийно увлекаются туда, где механизм власти и насилия уже/еще работает. Ненасилие демократического общества толкает массы в объятия сект, наркотиков, к аутодеструктивному поведению, но его десакрализация, его оправдывающаяся и защищающаяся позиция, повсеместное отсутствие деспотичности и иерархии. Покидая поле равноправия — равноудаленности и независимости друг от друга, — многие уходят в упорядоченные и плотно сцепленные насилием и властью зоны. Желеообразная и вялая сцена общества, утратившего стержень, реагирует самоорганизацией сообществ с жесткой вертикалью, с видимым axis mundi, с персонифицированной властью, с жестом и словом, вызывающими смесь страха и почтения, боли и радости, гнева и воодушевления; подобное происходит на территории бывшего СССР, в самостоятельных государствах, где власть местных элит выстраивается по архаическому и тем самым более понятному для родового сознания принципу. Так топос мстит демосу. Так массы дают увлечь себя волей, силой, страхом и величием фигуры.
Сколь ни актуальна работа Деррида по дезавуированию метафизического способа мышления, однако позиция деконструкции уязвима в точке серьезности, в точке, которую означил топос своим листом дерева (так был отмечен Зигфрид). Топос не только терпит/допускает несерьезность, игру, свободу и неопределенность, трату в определенных дозах не угрожающих выживанию, но и жизненно нуждается в этом. Если говорить не из того места, которое удалено, не от имени тела, которое рассеяно, то забота о топосе, на котором и благодаря которому тело твое есть, о семени, которое необходимо сохранить и взрастить, не может властно не захватывать того, кто в нем, не может не вызывать ответственности и сочуствия.
Современник устал от хорошо известного метода критики, от модернистской по своей интенции техники деструкции и, наконец, от сработанной по образцу масс-медий, но погруженной в текст деконструкции, которая перезагружает мышление другого. Устал от пустоты тотальной игры. Выход же видится в опыте ответственности, который может дать топологическая рефлексия, сочувствующая топосу, в котором она способна производиться. И это уже не за горами.
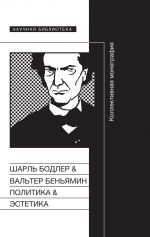
Надо учесть, что актуальное дело критики (ко времени Беньямина критика разума жестко институционализирована академическими рамками) переносится им в область современного искусства и литературы. С одной стороны, такая критика искусства стала возможной потому, что оно само изменило свои функции, слившись с жизнью и разрушив дистанцию между политическим и художественным действием; а с другой стороны, Беньямин прежде других отнес к искусству то, что общественное мнение таковым не считало (например, сюрреализм, дадаизм).
[Закрыть] свои собственные общественно-политические взгляды. Научный объективизм академической критики, который, согласно Беньямину, убивает удивление (исток философии по Аристотелю и Хайдеггеру), также устраняется позицией интерпретатора и художественного критика. Значение критики радикально переосмысливается: рассуждая об искусстве, критик вершит суд над всем миром.
[Закрыть] . Место своего возможного реванша он ищет то в России, то в Париже, то в марксистских и большевистских кругах, то среди интеллектуалов, собирающихся вокруг Коллежа социологии. Понимание справедливости Беньямином питалось стремлением привести в соответствие с реальностью свои претензии на интеллектуальное лидерство и успех.
[Закрыть] . Уход Беньямина с проторенной дороги логики, которую к слову сказать, основательно расширили и обустроили немцы – поступок решительный и по тем временам весьма рискованный.
[Закрыть] . Он разводит их до противоположности по всем пунктам. Если мифическое насилие – правоустанавливающее, то божественное – правоуничтожающее; если первое устанавливает границы применимости, то второе безгранично и нелегитимно; если мифическое является источником вины и одновременно позволяет искупить вину, то божественное – несоразмерно вине, но само вне вины, наконец, мифическое насилие – разумно и регламентированно, божественное – неразумно, безмерно и кроваво. По логике В. Беньямина христиане, с именем доброго Бога Нового Завета отказавшись от нравов и обычаев порочного Рима, в итоге наследовали его Право. Это и позволило Беньямину уравнять Право христианской Европы с мифичным правом, а мифу противопоставить Бога Иудеи, Бога в актуальном времени противостоящего Праву. Как тогда, так и сейчас. Современные носители Римского права унаследовали в свою очередь и мифическое насилие, насилие Рима.
Таким образом божественное насилие не прочитывается Беньямином как правоустанавливающее и тем самым оказывается вне чувства вины. В подтверждение он приводит пример мифа о наказании Ниобеи (Ниобы), все прегрешение которой было в том, что она возгордилась своими детьми (их по разным версиям было от семи до двадцати) и вздумала сравниться с Лето, у которой было двое детей: Аполлон и Артемида. Разгневанная хвастовством Ниобы, Лето обратилась к своим детям, которые стрелами уничтожили всех детей обидчицы. Божественное насилие не знает меры, не имеет границ, не порождает чувство вины, безответно.
Справедливое насилие, закодированное в критике Беньямина, делающее критика господином, становится образцом, с которым будет соотносить себя – пусть и неосознанно – едва ли не всеми угнетенными, добивающимися своих прав. Речевая фигура, провозглашающая чистоту насилия и его господство над теми, кто виновен в применении насилия (и здесь Беньямин сообразуется с марксистской формулой об экспроприации экспроприаторов), являет собой насилие как способ обретения справедливости. Он развязывает языки тем, у кого были связаны руки. Эта символическая речевая фигура материализуется позже в идеологии эмансипации, в модернистских жестах художников, в терроре.
Одна из главных путеводных нитей в изучении обрядов, поверий, обычаев есть их непосредственный, прямой, буквальный смысл… Целый отживший и давно исчезнувший мир, с его понятиями и историческим значением иногда вдруг оживает в ярких красках от одного устранения переносного значения двух-трех старинных обычаев, которое вкладывали в них исследователи, и от возвращения им их буквального, непосредственного, прямого смысла210 210
Кавелин К.Д. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. СПб., 1900. С. 49.
Шарль Бодлер – один из величайших французских поэтов, великий первопроходец неизведанных областей, который открыл для поэзии – оставаясь в рамках классической или даже архаической структуры – целый, прежде недоступный для нее мир. Это мир зла, уродства, мир негативного, дьявольского, сатанинского. При этом речь у него идет также о стремлении вознестись к абсолюту, стремлении, уносящем читателя к вершинам эстетического совершенства, прекрасного и божественного. Бодлер оказал глубокое влияние на всю последующую поэзию, в особенности на Поля Валери. Но что удивительно, постичь его самым глубоким, самым сокровенным и самым кровным образом сумел немецкий мыслитель Вальтер Беньямин.
Zieh ich den Vorhang zu, und schliesse den Verschlag
Und baue in der Nacht an meinem Fensterschlag, –
Je fermerai partout portières et volets
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais.
(Я повсюду закрою портьеры и ставни,
Чтоб построить в ночи мои волшебные дворцы.)

Философ Игорь Чубаров о добавочной стоимости насилия,
преследовании за ложь и принуждении к истине.
Теория критики насилия отличается от теории насилия прежде всего тем, что она не оправдывает насилие, не пытается его объяснить с точки зрения какой-либо частной, специальной науки, например, психологии или юриспруденции, оправдать в рамках каких-либо этических или моральных систем, а критикует насилие принципиально, концептуально, как некоторое явление, которое не должно никаким образом быть сочетаемо с разумом, оправдываемо им и входящим в какие-то комбинации, которые позволили бы этому насилию выживать в человеческом обществе, в истории и так далее.
Принадлежат к этой традиции критики насилия несколько замечательных философов, мыслителей 20 века. Хотя в истории человечества в гуманитарной культуре критика насилия возникает время от времени, особенно у литераторов, писателей, гуманистов и т.д., но весь вопрос в том, что так принципиально, так конкретно, как в 20 веке проблематика критики насилия не была выведена в качестве наиболее актуальных ярких вопросов для самой философии, а не для ее частных дисциплин или каких-то институций, где эта тема обсуждается. Я должен назвать этих мыслителей: это прежде всего Вальтер Беньямин, которым я преимущественно занимаюсь в последнее время, написавший о критике насилия текст в 20-е годы прошлого века. И к этой теме обращается Э. Левинас, французский философ и Ж. Деррида, который тоже пишет сразу и о Левинасе, и о Беньямине.
И эта тема по ее проблемности, сложности для философского анализа, не находит единства даже среди этих мыслителей, не говоря о широком консенсусе. Вокруг этой темы идут споры, баталии, взаимоисключающие подходы и позиции. Я выделю несколько ключевых моментов для этой темы: прежде всего, это связь насилия с разумом. Все эти мыслители по сути дела соглашаются с тем, что связь эта имеет место, но это не обозначает, что философия обречена принимать насилие в той или иной форме в качестве какого-то горизонта для осуществления своих потребностей в истине, смысле, даже если речь идет о познании вроде бы такой человеческой, социальной жизни и природе жизни одновременно, где насилие выполняет безусловно важную роль.
На границе Испании и Франции (ему не дали возможности перейти эту границу), спасаясь от фашистов, он принял наркотик. Но это был такой не драматический уход из жизни, как усыпление. Я считаю, что это яркий образ сложности этой проблемы. Решается она тоже больше диалектическим способом, то есть способом, который позволяет выразить ее скорее даже в некотором поэтическом или диалектическом образе. Сам Беньямин говорит о таком различии, как правоподдерживающее и правоустанавливающее насилие.
Правоустанавливающее насилие – это насилие, которое происходит в следствии войн, революций, массовых человеческих насильственных действий, которые устанавливают новое государство, новую народность, новое право. И в результате этих действий появляется то, что мы называем культурой, какая-то стабильная повседневная жизнь, какие-то процедуры отношений между людьми, когда они могут существовать не уничтожая друг друга, либо уничтожая друг друга каким-то ритуальным способом: либо опираясь на миф, либо на право и мораль.
Но политическая постановка вопроса в отношении насилия, которая заставляет вообще без насилия существовать, требует низвержения насилия и выведения за пределы различия правоподдержания, которое полиция осуществляет, мораль и право, и правоустановление, которое время от времени снова возникает в войнах и революциях.
Насколько это возможно? Для этого надо выявить в сердцевине насилия некую точку, которая саморазрушает его, как некое объяснимое человеческое качество, свойство, способность. Беньямин находит эту точку. Это так называемая добавочная функция, или добавочная стоимость насилия, которая доставляет человеку, группе людей или институту, применяющим насилие, некоторые удовольствия помимо того, что они достигают в поле правовых целей.
Считается, что насилие применяется оправданно в государстве для достижения неких правовых целей. Беньямин указывает на то, что это жалкое оправдание, которое позволяет легитимировать самые разнообразные формы насилия, которые в конце концов общество подмывают и выводят на порог нового испытания коллективной смерти: как война, самоуничтожение.
Дело в том, что философская истина, которая имеет дело с основаниями человеческой жизни, бытия, ориентированной в выяснении смысла этой жизни, на самом деле не должна находиться в услужении у каких-то внешних целей или обстоятельств. Философская истина может быть жестокой и нетерпимой, но одновременно с этим она не должна упираться в пустоту, нечто, в небытие, что она часто любит делать, переходя на личном уровне к каким-то медитативным практикам.
У философии есть нерешенные задачи: одна из них – проблема насилия. Именно проблема, а не насилие в повседневной жизни. Именно на концептуальном уровне, когда получается так, что насилие задает нам правила нашего мышления и часто оказывается, что сама мысль, сам разум носит насильственный характер. И что тогда делать? Ты попадаешь в ловушку.
Беньямин обращается к теме лжи. Ложь часто спасает людей от смерти. Любопытно, он указывает на такой момент, что в древнегерманском и римском праве не было преследования за ложь. Это было не нужно. А когда это произошло, то государство вместе со своими аппаратами, вместе с правом, на которое оно опирается как на некоторую теорию попыталось уже как-то заставлять и принуждать к истине людей, а это уже некая квазимыслительная, квазифилософская процедура.
Сейчас тоже популярна эта тема. Положить в основание права истину – это опасная вещь, она никогда не приведет к выживанию и избавлению от страдания живого, а цель любой философии состоит именно в избавлении от таких неразрешимых проблем страдания живого, а не утверждения каких-то абстрактных понятий, вроде бытия или жизни. Не существование, – говорил Беньямин, – человека в качестве справедливого – это более страшно-неразрешимая проблема, чем любые представления о бытии. И на эту проблему как бы сориентирована критика насилия, о которой я говорил, и которая меня очень и интересует.
Об одной из проблем неразрешимости, связанной с правом поддержания и с правом установления хочется сказать. Есть неразрешимости, связанные с тем, что человек для собственного выживания, для поддержания своей жизни вынужден обращаться к насилию ежедневно, ежечасно, например, поедая себе подобных животных. Как с этим быть? Казалось бы философ здесь сталкивается с чем-то невыносимым, неразрешимым. Есть другого уровня социальная проблема, когда мы сталкиваемся с несправедливостью на общественном, на бытовом уровне, и вынуждены прибегать к насильственным действиям чтобы защитить себя, своих близких, нацию, этнос, что угодно. Вроде бы насилие здесь можно оправдать. Но это не философский путь, оправдывать его нельзя.
Поэтому Беньямин отличает жизнь и живое. Живое страдает. Жизнь – цветет и пахнет. Только не у изгоев. Сам Беньямин прошел этот путь до конца. Это не только самоубийство – это убийство со стороны более мощных агрессивных дискурсов, которые нес сталинизм, фашизм и вся идеология насилия, с которой человечество не может расстаться.
Читайте также:

