Грин психологические новеллы краткое содержание
Обновлено: 30.06.2024
В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали океана, где должны они блуждать до окончания жизни.
Ф.Купер. “Мерседес-де-Кастилья”.
Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае — нечто, огромнее сознания, основанное, быть может, на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.
Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкального обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души, может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой. Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство, производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зрелище — возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром расстилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их — повторим это — увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.
Такое же именно отношение к сущему — отношение музыкальной приподнятости — составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр, развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил, казалась самому ему видимой как бы со стороны — действующим лицом пьесы без названия и конца — предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам — публика. И герой пьесы — был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.
Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно-ликующей музыки было — как чувствовал всем существом Грациан Дюплэ — полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.
Однако память Дюплэ по пробуждении отказывалась восстановить слышанное. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища; звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо — музыкальное обаяние.
Грациан Дюплэ был скрипач.
^ Александр Грин
Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда я, еще никому не известный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжего, страдавшего нервными тиками.
В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие: явился новый, третий по счету пациент. Еще и теперь, закрыв глаза, я вижу его перед собой как живого. Это был человек среднего роста, лысый, с важным, слегка рассеянным взглядом, с курчавой белокурой бородкой и острым носом. Сложение его выдавало наклонность к полноте, что составляло некоторый контраст с резкими, порывистыми движениями. Заметил я также две особенности, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не указывали на сильную степень нервного расстройства: конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление пальцами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и разгибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина.
Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную, внимательную невозмутимость, которая, как мне казалось тогда, присуща всякой мало-мальски серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка.
— Чем вы больны? — спросил я.
— Я, доктор.
Он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлежности. Через минуту я снова услышал его вялый, смущенный голос:
— Вещь, изволите видеть, такая. Очень странная. странная. Странная вещь. Можно сказать — вещь. Впрочем, вы не поверите.
Заинтересованный, я пристально посмотрел на него; он дышал медленно, с трудом, опустив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях.
— Почему же я вам не поверю?
— Так-с. Трудно поверить, — с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близорукие, растерянно улыбающиеся глаза.
Я пожал плечами. Он сконфузился и тихонько кашлянул, по-видимому, приготовляясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку; весь он, так сказать, внутренно суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать.
Наконец, человек этот заговорил и, заговорив, почти успокоился. Голос его звучал ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины.
— Удивлять, так удивлять, — сказал он как будто с сожалением. — Вы меня только. очень прошу-с. не перебивайте. Да-а.
— Не волнуйтесь, — мягко заметил я. — Удивление же — это удел профанов.
Намекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиатрии, я принял непринужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать карандашом по кончикам пальцев. Он замялся, вздохнул и продолжал:
— Пожалуйста, не будете ли вы так добры. если можно. каждый раз, как я руку подыму. Прошу извинить. Побеспокойтесь сказать, пожалуйста: “Лейпциг. Международный турнир-с. Мат в три хода”? А? Пожалуйста.
Не успел я еще изобразить собой огромный вопросительный знак, как снова посыпались страстные, убеждающие, тихие слова:
— Не могу-с. Верите ли? Не сплю, не ем, идиотом делаюсь. Для отвлечения от мыслей это мне нужно, вот-с! Как скажете эти слова, так и успокоюсь. Говоришь, говоришь, а она и выплывет, мысль эта самая. Боюсь я ее: вы вот извольте послушать. Должно быть, дней назад этак восемь или девять. Конечно, все думаем об этом. Тот помрет, другой. То есть — о смерти. И как оно все происходит, я вам доложу, как одно за другое цепляется — уму непостижимо. Сидел я этак у окошка, книгу читал, только читать у меня охоты большой не было, время к обеду подходило. Сижу я и смотрю. Ведь вот настроение какое бывает, — в иной момент плюнул бы, внимания не обратил. А тут мысли рассеянные, жарковато, тихий такой день, летний. Идет это, вижу, женщина с грудным младенцем, платок на ней кумачовый, красный. Потом девочка лет семи пробежала, худенькая девчонка, косичка рыжая это у ней, как свиной хвостик торчит. Позвольте-с. Вот вижу, следом гимназистка проходит, потом дама, и очень хорошо одетая, чинная дама, а за ней, изволите видеть, — старушка. Вот. понимаете?
Я с любопытством посмотрел на его руки: они быстро, мелко дрожали, расстегивая и застегивая пуговицу сюртука. В том, что он рассказывал мне, для него, по-видимому, укладывалась целая цепь каких-то пугающих умозаключений.
— Нет, не понимаю, — сказал я, — но продолжайте.
Он был сильно бледен и смотрел куда-то в сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, он сморщился, подумал и продолжал:
— Как старушка прошла, мне и вступи в голову такая история: одной ведь теперь похоронной процессии не хватает. Отошел от окна я, а все думаю: и ты, брат, помрешь. ну, и все в этаком роде. А потом думаю: да кто мы все такие, живые, ходящие и говорящие? Не только, что трупы созревающие, вроде как яблоки на сучке, а и есть еще во всем этом какая-то страшная простота.
Перед двумя последними словами голос его пресекся от возбуждения. Я напряженно слушал.
— Все это, — продолжал он, — аппетита моего не испортило. Пообедав, с наслаждением даже в гамаке лежал. А как подошла ночь, хоть караул кричи, — схожу с ума, да и все тут.
Жалкая улыбка застыла на его судорожно сосредоточенном, вспотевшем лице. Вытащив носовой платок и сморкаясь, он продолжал смотреть мне в лицо тем же пристальным, остолбеневшим взглядом.
Я невольно улыбнулся: эта маленькая деталь, носовой палаток, вдруг разрушила немного жуткое впечатление, произведенное на меня странным, чего-то испугавшимся человеком. Но он стал рассказывать дальше, и скоро я снова почувствовал себя во власти острого, болезненного любопытства. Еще не зная в чем дело, я, кажется, уже готов был поверить этому человеку, оставляя под сомнением его ненормальность.
Он спрятал платок и продолжал:
— До вечера был я спокоен. Веселый даже ходил. ну, отправляясь спать, в садик вышел по обыкновению, посмотреть, папироску выкурить. Тихо, звезды горят как-то по-особенному, не мягко и ласково, а раздражают меня, тревожат.
Сижу, думаю. О чем? О вечности, смерти, тайне вселенной, пространстве. ну, обо всем, что в голову после сытного ужина и крепкого чаю лезет. Философов вспоминаю, теории разные, разговоры. И вспомнилась мне одна вещь, еще со времен детства. Тогда я сильно гордился тем, что, так сказать, собственным умом дошел. Вот как я рассуждал: бесконечное количество времени прошло, пока “я” не появился. Ну-с, умираю я, и допустим, что меня совсем не было. И вот — почему в пределах бесконечности я снова не могу появиться? Я немного сбивчиво, конечно. но пример. такой. чистый лист бумаги, скажем, вот. Беру карандаш, пишу — 10. А вот — взял и стираю совсем, начисто. И что же! Беру карандаш снова и снова “10” пишу. Понимаете — 1 и 0.
Он замолчал, перевел дух и вытер рукавом капли пота, мирно блестевшие на его измученном лысом черепе.
— Продолжайте, — сказал я, — и не останавливайтесь. В таких случаях лучше рассказать сразу, это легче.
— Да, — подхватил он, — я. и. ну, не в этом дело. Так вот. Мысли мои вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил. И вот здесь, в первый раз, мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если.
— Если? — подхватил я, видя, что он вдруг остановился.
Он ответил шепотом, торжественным и удрученным:
— Если думать об этом безостановочно, не боясь смерти.
Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно, уколотый.
— Невероятно? — воскликнул он. — А что, если я вам такую перспективу покажу: вы, вот вы, доктор, сразу, вдруг, сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство. Хорошо-с. Но вы ведь мыслите о нем со стенками, вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите! И вдруг нет для вас ничего, стенок нет, вы чувствуете всем холодом сердца вашего, что это за штука такая — пространство! Ведь миг один, да-с, а этот самый миг вас насмерть уложить может, потому что вы — не приспособлены.
— Возможно, — сказал я. — Но я себе не могу даже и представить.
— Вот именно. — подхватил он с болезненным торжеством. — И я не представил, но чувствую, — и он стукнул себя кулаком в грудь, — вот здесь ношу чувство такое, что, как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, — пойму. А поняв — умру. Вот давеча я просил вас слова “мат в три хода” крикнуть, если я руку подыму. Все это оттого, что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, — другое направление мыслям сразу дадите.
А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журнальчик один выписывал. Я ее, голос ваш услышав, — и начну с места в карьер решать. Так вот-с. сижу я, вдруг, слышу, жена меня с крылечка зовет: “Миша!”. А я слышу, что зовет, но отвечать ей, представьте себе, не могу, — сковало мне язык, и все тут. Потом уж я догадался, в чем тут штука была: настроение у меня было в момент этот, так сказать, самое неземное, редкое даже настроение, а тут нужно о деле каком-нибудь домашнем разговаривать, пустячки разные. Молчу я. Второй раз зовет: “Миша-а! Уснул, что ли, ты?” Тут я разозлился и сказал ей, извините, вот эти самые грубые слова: “Пошла к черту!” Хорошо-с. Ушла она. И так мне грустно стало после этого, что и не расскажешь. Пойду, думаю, спать. Разделся, лег, а все не спится мне, круги разные мелькают, мухи светящиеся бегают. А сердце, надо вам сказать, у меня давно не в порядке. Вот и начало оно разные штуки выделывать. То остановится, то барабанным боем ударит, да так сильно, что воздуха не хватает. Страх меня взял, в жар бросило. Умираю, думаю себе. И как это подумал, поплыла кровать подо мной, и сам я себя не чувствую. Ну, хорошо. Прошло это, опомнился. однако спать уже не могу. Мысли разные бегут, бегут как собаки на улице, разные образы мелькают, воспоминания. Потом, вижу, девочка идет утренняя, за ней барышня, потом старуха. вся эта процессия, как живая, движется. И только, знаете, мысль моя на этой старухе остановилась, как задрожал я и закричал во весь голос: чувствую, один поворот мысли, и пойму, понимаете, — пойму и разрешу всю загвоздку смерти и жизни, как дважды два — четыре. И чувствую, что, как только пойму это, в тот же самый момент. умру. не выдержу.
Он замолчал, и показалось мне, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыхание. Белый, как известь, сидел передо мной испуганный человек, не сводя с моего лица стеклянных, вытаращенных глаз. И вдруг он поднял, вытянув вверх, руку, старательным, неуклюжим движением, — знак подступающего ужаса, — руку с крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой.
И было, должно быть, в этот момент в комнате двое сумасшедших — он и я. Его паника заразила меня, я растерялся, забыв и “мат в три хода”, и то, что значила эта беспомощная, выброшенная вверх рука с желтыми пальцами. Без мыслей, с одним нестерпимо загоревшимся желанием вскочить и убежать, смотрел я в его медленно уходящие в глубь орбит глаза, — маленькие, черные пропасти, потухающие неудержимо и бесцельно.
Рука опускалась. Она лениво вогнулась сначала в кисти, потом в локте, потом в предплечье, всколыхнулась и тихо упала вниз, мягко хлопнув ладонью о сгиб колена.
Испуг возвратил мне память. Я вскочил и крикнул размеренным, твердым голосом, стараясь не показаться смешным самому себе:
— Лейпциг! Международный турнир! Мат в три хода!
Он не пошевельнулся. Мертвый, с успокоившимся лицом, залитый электрическим светом, — он продолжал неподвижно и строго смотреть в ту точку над спинкой моего кресла, где за минуту перед этим блестели мои глаза.
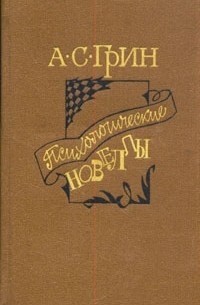
Творчество Александра Степановича Грина широко известно. Но при этом многие стороны дарования писателя до сих пор еще остаются в тени. Настоящий сборник представляет автора "Алых парусов" и "Бегущей по волнам" непривычными, порою неожиданными гранями его таланта.
Вошедшие в книгу произведения, написанные в разные периоды жизни Грина, различные по форме и манере письма, объединяет углубленный психологизм. Пристальный интерес к тайнам и скрытым возможностям человеческого сознания.
Лучшая рецензия на книгу
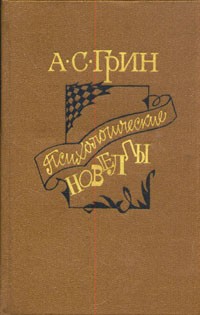
27 октября 2018 г. 07:44
Замечательные новеллы! Есть о чем подумать. Но развернуто остановлюсь на одной, на "Силе непостижимого ". Александру Степановичу принадлежат произведения не только о путешествиях, он очень интересовался душевным состоянием человека, психологией и парапсихологией, отсюда и эти "Психологические новеллы ".
Делюсь своими размышлениями.
Бывает так, когда от любви до ненависти; от ума к безумию или других потрясений, совершающихся в личном пространстве души человека отделяет всего один шаг или один миг. Индивидуальная сверхчувственность, сверхвосприятие чего бы то ни было располагаются в областях нам неведомых и неподвластных. Грациан Дюплэ, скрипач, жил в постоянном сопровождении музыки, но после сна он пытался вспомнить и уловить исчезающие звуки чего-то очень…
Вадим Ковский. Мастер психологической прозы (предисловие)
Александр Грин. Кирпич и музыка (рассказ)
Александр Грин. Рука (рассказ)
Александр Грин. История одного убийства (рассказ)
Александр Грин. Пассажир Пыжиков (рассказ)
Александр Грин. Ксения Турпанова (рассказ)
Александр Грин. Приключения Гинча (повесть)
Александр Грин. Гранька и его сын (рассказ)
Александр Грин. Подаренная жизнь (рассказ)
Александр Грин. Черный алмаз (рассказ)
Александр Грин. Мат в три хода (рассказ)
Александр Грин. Рассказ Бирка (рассказ)
Александр Грин. Загадка предвиденной смерти (рассказ)
Александр Грин. Ночью и днем (рассказ)
Александр Грин. Львиный удар (рассказ)
Александр Грин. Огонь и вода (рассказ)
Александр Грин. Преступление Отпавшего Листа (рассказ)
Александр Грин. Сила непостижимого (рассказ)
Александр Грин. Состязание в Лиссе (рассказ)
Александр Грин. Канат (рассказ)
Александр Грин. Крысолов (рассказ)
Александр Грин. Наследство Пик-Мика (рассказ)
Александр Грин. Повесть, оконченная благодаря пуле (рассказ)
Александр Грин. Искатель приключений (рассказ)
Александр Грин. Возвращенный ад (рассказ)
Александр Грин. Пропавшее солнце (рассказ)
Александр Грин. Лошадиная голова (рассказ)
Александр Грин. Безногий (рассказ)
Александр Грин. Серый автомобиль (рассказ)
Александр Грин. Брак Августа Эсборна (рассказ)
Александр Грин. Элда и Анготея (рассказ)
Александр Грин. Акварель (рассказ)
Александр Грин. Комендант порта (рассказ)
Вадим Ковский. Примечания
Год издания: 1988
Рецензии
27 октября 2018 г. 07:44
Замечательные новеллы! Есть о чем подумать. Но развернуто остановлюсь на одной, на "Силе непостижимого ". Александру Степановичу принадлежат произведения не только о путешествиях, он очень интересовался душевным состоянием человека, психологией и парапсихологией, отсюда и эти "Психологические новеллы ".
Делюсь своими размышлениями.
Бывает так, когда от любви до ненависти; от ума к безумию или других потрясений, совершающихся в личном пространстве души человека отделяет всего один шаг или один миг. Индивидуальная сверхчувственность, сверхвосприятие чего бы то ни было располагаются в областях нам неведомых и неподвластных. Грациан Дюплэ, скрипач, жил в постоянном сопровождении музыки, но после сна он пытался вспомнить и уловить исчезающие звуки чего-то очень…
В рассказах А. Грина-психолога благодаря неожиданным сюжетным коллизиям, необычным обстоятельствам, загадочным происшествиям приоткрываются разные грани человеческой натуры, зачастую обостренный драматизм повествования подчеркивает интеллектуальные возможности героев.
Автор пристально наблюдает за проявлениями детской психики в состоянии стресса; выразительно показывает весь спектр психологических состояний, охвативших героя: напряжение, волнение, безумную остроту чувств, страх, отчаяние. Можно лишь предполагать, какими тяжкими психологическими последствиями отзовется этот чудовищный эксперимент во взрослой жизни несчастного Роберта Эльгрева. Важна в повествовании и этическая сторона. Наблюдая за психологией жертвы (ребенка, оказавшегося в определенных обстоятельствах, в конкретной роли), А. Грин пытается увидеть и понять: способен ли человек в условиях жесточайшего террора выжить физически, не сломаться духовно; может ли он чистотой своей души и помыслов, лучшими сторонами своей человеческой природы противостоять социальной несправедливости, бесчеловечным теориям и экспериментам.
Примечания
1. См.: Грин Н.Н. Воспоминания об А. Грине. Коктебель, 2005, стр. 67.
2. См.: Ковский В. Реалисты и романтики. Москва, 1990, стр. 272.
3. Грин А. Крысолов // А. Грин. Психологические новеллы. Москва, 1988, стр. 250.
В субботу вечером Коркин сидел в трактире и пил чай, обдумывая, где бы заночевать. Его искала полиция. Хлопнула, дохнув морозным паром, дверь; вошел испитой мальчишка, лет четырнадцати. Он осмотрелся, увидел Коркина и, подмигнув, направился к нему.
— Тебя, слышь, хотят тут, дело тебе есть, — сказал он, подсаживаясь. — Фрайер спрашивал.
Коркин, постучав, вошел. Неизвестный нервически заморгал.
— По делу звали, — сказал Коркин, смотря на бутылки.
— Да, да, по делу, — заговорил шепотом неизвестный. — Вы — тот самый?
— Пьете, — нахально ответил Коркин; он сел, налил и выпил.
Барин некоторое время молчал, воздушно поглаживая бороду пальцами.
— Обтяпайте мне одно дело, — хмуро сказал он.
— Говорите… зачем звали.
— Мне нужно, чтобы одного человека не было. За это получите вы тысячу рублей, а задатком теперь триста.
Левая щека его задергалась, глаза вспухли.
Коркин выпил вторую порцию и съязвил:
— Самому-то вам… слабо… или как.
— Что? Что? — встрепенулся барин.
Барин устремился к окну и, постояв там вполоборота, кинул:
— Сам болван, — спокойно ответил Коркин.
Барин как бы не расслышал этого. Присев к столу, он объяснил Коркину, что желает смерти студента Покровского; дал его адрес, описал наружность и уплатил триста рублей.
— В три дня будет готов Покровский, — сухо сказал Коркин. — По газетам узнаете.
Они условились, где встретиться для доплаты, и расстались.
Весь следующий день Коркин напрасно подстерегал жертву. Студент не входил и не выходил.
К семи часам вечера Коркин устал и проголодался. Размыслив, решил он отложить дело до завтра. Кинув последний раз взгляд на черную арку ворот, Коркин направился в трактир. За едой он заметил, что ему как-то не по себе: ныли суставы, вздрагивалось, хотелось тянуться. Пища казалась лишенной запаха. Однако Коркину не пришло в голову, что он простужен.
Преступник с отвращением доел щи. Сидя потом за чаем, он испытывал неопределенную тревогу. Бродили беспокойные мысли, раздражал яркий свет ламп. Коркин хотел уснуть, забыв о полиции, железной гирьке, приготовленной для Покровского, и всем на свете. Но притон, где он ночевал, открывался в одиннадцать.
У Коркина оставалось два свободных часа. Он решил провести их в кинематографе. На него напало странное легкомыслие, полное презрение к сыщикам и тупое безразличие ко всему.
С порога Коркин осмотрел комнату. За стеклами виднелось нечто красное, голубое, розовое и синее, и в каждом таком непривычных очертаний предмете был намек на тело самого Коркина.
Рядом с этим ящиком блестел большой черный глаз; за его ресницами и роговой оболочкой виднелись некие, непонятные Коркину, похожие на маленький станок, части, и он, тупо смотря на них, вспомнил свой выбитый глаз, за которым, следовательно, был сокрушен такой же таинственный станок, как тот, которые он видел.
Коркин осмотрел тщательно все: мозг, напоминающий ядро грецкого ореха; разрез головы по линии профиля, где было видно множество отделений, пустот и перегородок; легкие, похожие на два больших розовых лопуха, и еще много чего, оставившего в нем чувство жуткой оторопелости. Все это казалось ему запретным, случайно и преступно подсмотренным. В целомудренной восковой выразительности моделей пряталась пугающая тайна.
Коркин направился к выходу. Проходя мимо старика извозчика, стоявшего рядом с бабой в платке, он услышал, как извозчик сказал:
— Все, как есть, показано, Вавиловна. Работа божья… хитрая… и-их — хитрая заводь! Все это… мы, значит, вовнутри, вот… да-а!
Суеверный страх проник в Коркина — страх мужика, давно приглушенный городом. В среде, где все явления жизни и природы: рост трав, хлеба, смерть и болезнь, несчастье и радость — неизменно связываются с богом и его волей, — никогда не исчезает такое суеверное отношение к малопонятному. Коркин шел по улице, с трудом одолевая страх. Наконец страх прошел, оставив усталость и раздражение.
Он подошел к тем воротам и, подождав немного, вдруг столкнулся лицом к лицу с вышедшим из-под ворот на улицу высоким, прихрамывающим молодым человеком.
Чувствуя, что рука не поднимается, что страшно и глухо вокруг, Коркин прошел мимо студента, кинув сквозь зубы:
— Что такое? — быстро спросил студент, отшатываясь.
— Даром живете! — повторил Коркин и, зная уже, с тупой покорностью совершившемуся, что студент никогда не будет убит им, — свернул в переулок.
Читайте также:

