Бакланов почем фунт лиха краткое содержание
Обновлено: 16.05.2024
четверг, 29 января 2015 г.
ПОЧЁМ ФУНТ ЛИХА
С самого раннего детства я росла на рассказах о войне; о подвигах партизан и наших солдат; о нелегкой, а порой и очень тяжелой жизни людей, находящихся под немецкой оккупацией. Книги всегда были моими самыми любимыми друзьями - читала я много и просто взахлёб. Именно с ними я впитала ненависть к войне и фашизму, и именно они рассказали мне о подвиге нашего народа. Для меня 9 Мая, День Победы, святой день. И лично я никогда и никому не позволю его охаивать.
Современные книги о Великой Отечественной войне я читаю мало, я им попросту не доверяю. Тем более, если книга написана зарубежным автором - чаще всего они полны ненависти ко всему советскому. А видя, что происходит сейчас вокруг нас; видя, как легко и запросто перевирается история и как ведётся агрессивная пропаганда в адрес нашей страны, я перестала верить этим книгам окончательно. Моими любимыми книгами по прежнему остаются те старенькие, из моего детства. Они написаны людьми, видевшими ужасы войны своими глазами или со слов выживших свидетелей, ещё относительно многочисленных тогда. Эти книги живые, правдивые и очень яркие. Жаль, что многие из них не переиздаются.
Хочу привести отрывок из небольшого рассказа "Почём фунт лиха", написанного в 60-е годы автором Григорием Баклановым. Он в 17 лет добровольцем ушёл на фронт, воевал сначала рядовым на Северо-Западном фронте, затем командиром взвода управления артиллерийской батареи на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Был тяжело ранен, контужен. Командовал взводом, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. В 1942 году вступил в ВКП(б) . Закончил войну начальником разведки артдивизиона.
Сюжет этого небольшого рассказа был положен в основу телефильма "Был месяц май", который в 1971 был награждён призом международного фестиваля телефильмов в Праге.
Рассказ этот очень показателен - у нас действительно разные ценности. И мы, наверное, всегда будем смотреть на ЭТУ войну по-разному.

"Был месяц май, уже шестой день как кончилась война, а мы всё стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами - аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там - бочки холодного яблочного сидра, во дворах - куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало всё это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев.
Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги.
О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всём, пусть он за всё и отвечает. А они сняли с себя сапоги.
На второй день мира, за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать.
. помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв в плен немца, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он, рабочий, и что же Гитлер сделал с ним, заставив воевать против нас. И кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась. и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: "Ты - солдат и я - солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга." Иное лежало между нами, иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого.
. рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шёл приветствовать "герра официра", она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками замешивала свиньям, и всё горело в этих руках. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву, и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о её расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под расслабленной походкой, под всем этим домашним видом чувствовалась тщательно скрываемая военная выправка.
. за перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона. Когда все ушли, он сел рядом со мной на кровать. И тут только я заметил, что у него лицо больного человека. От него пахло водкой.
- Знаешь, - сказал он, - я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился. В трёх километрах отсюда. Я вчера ездил туда.
Я знал, что у него в сорок первом году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А два года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уже не мог и просил только передать семье, что жив.
. вчера впервые увидел он наконец немецкий концлагерь. Тем же путем, от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шёл он по земле, впитавшей их кровь. Он уже знал, что если и был среди их навсегда исчезнувших следов след его отца, никто никогда не расскажет ему об этом.
- Там канава такая. За крематорием. - Он вдруг сильно побледнел. - Мухи над ней. Зеленые.. Я не сразу понял. Только вдруг страшно стало. Запах, наверное. Там человеческий жир, в канаве. Людей сжигали, и стекало туда.
- Я вернулся, спрашиваю их: "Знали про всё это?" "Никс, никс!" Не знали, говорят. Так идите смотреть! - Расширившаяся шея его налилась кровью. - Не идут. Не хотят идти. Понял? Рядом людей жгли. Пеплом удобряли землю. А они теперь хлеб жрут.
Он встал, огни свечей заколебались, тень руки метнулась по стене к полке. Взяв оттуда вещицу, Яковенко повернул её клеймом к свету: "Видишь?" Клеймо было французское. В колеблющемся свете глядели на нас со стен, с полок вещи, вещицы, странно не подходившие одна к другой. Это были вещи из разных семей, никогда прежде не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи людей, быть может, теперь уже уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дании. И в нескольких километрах отсюда - концлагерь.
Я не мог на следующий день смотреть на поля. "Пеплом удобряли землю. " Я всё же не хотел верить в это. Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносят на всех. Но молчали все. И те, кто знал, и те, кто только догадывался, и даже те, кто не одобрял.
. в голубом идиллическом небе Германии плыли чистые, сверкающей белизны облака. Тени их невесомо скользили по земле. Мир и тишина. Но скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливцам - встречать похороненных.
. хозяин был приветливей, чем всегда. ещё прикуривая, я заметил одним глазом, как пробежала в свинарник хозяйка. Лицо у неё было гневное и вместе с тем испуганное, как бы готовое к унижению.
. А тем временем к нам шёл его сын с записной книжкой и карандашом в руках. Он остановился передо мной, держа раскрытую книжку перед глазами, словно собираясь петь, прокашлялся. он говорил быстро, до меня доходил только смысл отдельных немецких слов. Но он настойчиво повторял снова и снова, и я разобрал наконец. Оказывается, в мое отсутствие кто-то из разведчиков застрелил свинью.
- Это была хорошая свинья. Она имела тридцать килограммов веса и еще могла расти. Но это уже были тридцать килограммов полноценного свиного мяса. И каждый килограмм стоит.
Он уже несколько раз сказал "костен". С детства я помнил это немецкое слово. Тогда я знал стишок: "Гутен таг, фрау Майер! Вас костен ди айер? - Ахт пфенниг. - Ахт пфенниг? Дас ист цук тоер. " Добрая, добрая фрау Майер!
. немец кивал дымящейся трубкой, а сын его при мне подсчитывал заново то, что уже было ими подсчитано всей семьей. близко поднеся записную книжку к глазам, он прочел фамилию того, кто застрелил свинью: " Зольдат Макарушка". И посмотрел на меня.
. он (Макарушка) пришел к нам в освобожденном украинском селе, ко мне, первому встреченному им начальнику. Босой, одичавший и - по глазам было видно - очень голодный, он просил, чтобы мы взяли его с собой на фронт. женщины считали его придурковатым, жалея, изредка кормили его. По той же самой причине, что укрепилась за ним слава блаженного, он не был угнан в Германию.
. однажды, когда мы вдвоем сидели на наблюдательном пункте, он рассказал мне о себе. Он был из партизанской деревни. Почти все мужчины и отец его ушли в лес, но немцы почему-то долго не трогали семьи, не мстили. Потом в одну ночь была устроена облава. Жителей согнали в школу, забили двери и здание подожгли. Тех, кто пытался выскочить из огня, расстреливали в окнах. Там, в огне, погибла его мать. И все же, как ни внезапна была облава, многие матери успели спрятать детей. И спряталась часть жителей. Их разыскивали после по погребам, по подвалам. Ночью вели их на расстрел. Макарушка нес на руках двухлетнюю сестренку. У оврага всех выстроили. Одного Макарушка не мог простить себе: что в этот последний момент держал сестренку на руках:
- Мне б её на землю поставить. Маленькая, затерялась бы в ногах, может, не заметили бы. Ночь ведь. А она испугалась вся, держится за меня, не оторвать. Ноготочки у неё были, так впились вот сюда мне. - Он показал себе за шею.
И я подумал тогда: сколько не проживет он на свете, всегда будет он ощущать эти впившиеся в него ноготки двухлетней девочки, всем крошечным телом почувствовавшей смерть.
"Она еще могла расти. " - сказал молодой немец о свинье, которая весила тридцать килограммов. Это была его свинья, и никто не имел права безнаказанно стрелять в неё.
. я смотрел снизу на молодого немца. Ему четырнадцать лет, и голос у него еще ломается, не отвердел еще. Ему столько же, сколько было Макарушке, когда его с двухлетней сестренкой на руках повели расстреливать, когда он потом, ночью, выполз из общей могилы и уполз в лес и там, один как зверь, травами залечивал раны.
Этот в четырнадцать лет еще не изведал, почем фунт лиха, но он уже хорошо знает, во что обходится и сколько следует получить за килограмм полноценного свиного мяса. И вот со счетом в руках стоит передо мной, уверенный в своем праве предъявлять нам счет.
Вечером мы ели свинину. Хозяева фермы, как всегда в этот час, ушли, очень недовольные нами. только сын, молодой управляющий, всё еще хлопотал по хозяйству.
. я услышал, как стукнула калитка. Потом - незнакомые, шаркающие шаги. я подождал, и человек вошел в пространство, видимое мне. Он был сильно истощен, волочил ногу, но по двору шел так, что я почувствовал: он когда-то уже бывал здесь. наконец дверь открылась, он ступил через порог. Это был старик в серой, не имевшей цвета и, видимо, не своей одежде: она вся висела на нем.
- Здравствуйте! - сказал я из темного простенка. разглядев меня, он поздоровался, снял с головы круглую лагерную шапку и что-то спросил по-польски и по-немецки. Он искал немца, хозяина этого дома.
. я выдвинул ему тяжелый дубовый стул, он сел, остро обозначились худые колени. Теперь было видно вблизи, что это не старик, а очень замученный человек с провалившимися висками и серым бескровным лица. Мне как раз только что принесли на тарелке свинину, жаренную куском, и жаренную в свином сале картошку. он несколько раз посмотрел на тарелку. Пожалуй, с излишней поспешностью я подвинул свинину ему. И увидел ужас в его глазах.
-Вы здесь жили раньше? - спросил я, чувствуя, как ему неловко за свою слабость. - Вы знаете этот дом?
- Поляк, - сказал он, объясняя этим всё свое положение здесь, положение человека, силой угнанного в Германию.
- Я хотел видеть его. моя жена жила здесь. Здесь - он указал в окно на коровник. Подымать руку ему стоило усилий. - И здесь у меня был сын. - Он опять посмотрел на меня. - Когда он родился и закричал, она зажала ему рот рукой, чтоб не услышал никто. Но скрыть можно только мертвого. Один раз она кормила грудью, и вошёл в коровник немец. Он ничего не сказал, он только посмотрел на ребенка, как его кормят молоком. Она не могла мне объяснить, как о посмотрел, только плакала и дрожала вся, когда рассказывала об этот. Что я мог сделать? Я работал у немца вон там, в той деревне, но что я мог сделать?
- Теперь я вижу, как он посмотрел. Он, хозяин, кормил её, чтобы она могла работать, а ребенок брал из неё силы. После этого она прятала мальчика, когда уходила в поле. Она говорит, что услышала его крик. Но я думаю, этот крик всё время был у неё в сердце. Она бежала с поля и слышала, как ребенок кричал. А немец во дворе запрягал коней ехать в гости. И свинарник был закрыт снаружи доской. Она бросилась туда, она чувствовала. И когда растолкала свиней, увидела нашего мальчика. С тех пор она видела только это. А когда совсем помешалась рассудком и уже не могла работать, немец взял её за руку и отвел в горы, в лагерь. Там был крематорий. Она не понимала, куда её ведут, и это было её счастье.
. тех, кого мы искали, не было нигде. Их не было и назавтра. Позже мы узнали, что они ушли на Запад. Все трое.
. Наверное, и сейчас наши бывшие хозяева вспоминают те майские дни, как чёрные дни своей жизни. Тогда мальчишке было четырнадцать лет, и голос у него еще ломался. У многих из них тогда ломался голос. Сейчас он окреп. И этим окрепшим голосом они вновь заявили миру о своих обидах.
А в те первые, считанные дни мира стоял передо мной четырнадцатилетний худой немец со счетом в руках. Я вижу его и сейчас - с побледневшим носом, с пятнами волнения на лице. Его не интересовало прошлое, он ничего не хотел о нём знать, он хотел получить за свинину. И уже тогда он был уверен в своем праве предъявлять счет."
- ЖАНРЫ 360
- АВТОРЫ 282 171
- КНИГИ 669 724
- СЕРИИ 25 792
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 621 032
Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметённые подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжко вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.
На второй день мира за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в чёрном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было ещё непривычно его отпустить.
В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты… Чтобы не возникало сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнений насчёт причин, по которым в доме будет ночевать сын.
Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемна ещё звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про козака, ускакавшего на вийноньку, и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.
Вот так и в это утро, пока я завтракал, он сидел у стола, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не шесть дней, а сто лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня: во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я ещё не видел его.
Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую кадку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками: На ногах у неё были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для неё одной не наступил мир, как уже не могло наступить для неё будущее. Все, что было у неё, осталось в прошлом, а ей при её железном здоровье, суждено было ещё долго жить.
У неё был муж. Коммунист. Его убили на митинге ножом в спину. У неё был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь, уже не свою — его жизнь. Его убили в сорок четвёртом году на фронте.
Заспанный командир отделения разведчиков Маргослин, в гимнастёрке без ремня, босиком, подошёл к ней, взялся за кадку. Она не отдавала её из напрягшихся рук, и некоторое время, стоя посреди двора, они тянули кадку каждый к себе. Потом Маргослин легко понёс её на плече, а Магда шла сзади с тёмным даже в солнечный день лицом. Так они скрылись за сараем.
Я не видел ни разу, чтобы кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь; ни хозяйке, обладавшей такими пышными достоинствами, ни мальчишке. Единственная, кого они жалели, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, ещё и обрели.
Я доел яичницу со сковородки, налил себе второй стакан вина. Оно было светлое, прозрачное, только что из погреба, и пустой стакан с оставшимися на нем мокрыми следами пальцев долго ещё покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел портупею — хозяин почтительно присутствовал при этом, — затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя каждый мускул, с особенным удовольствием ощущая тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну, человек в двадцать два года, в сущности, остаётся очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да ещё в глазах немца.
После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился иссиня-чёрной эмалью и никелем мотоцикл. Вздрагивающего от заведённого мотора, я вывел его со двора и едва успел поставить ноги на педали, как он рванулся подо мной, и полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой стене неба, и это была правда, что кончилась война и мы в Германии. За всех, кто не дошёл сюда. Я до отказа прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и нетающий холодок под сердцем — острый холодок жизни.
За перевалом была ещё деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона. Тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъёму в лесу, помогая ногами, я взобрался на перевал, и оттуда, с оглушительным треском, стреляя назад из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники — сквозь пелену слез все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечные полосы.
Лариса Васильевна вопросительно посмотрела на нее.
— Научиться и в жизни находить все погрешности и опечатки и стараться по возможности исправлять их.
Она говорила чуть загадочно своим отчетливым голосом, — может быть, она знала, что Павел Николаевич Устиев стоял на площадке лестницы, может быть, она знала то, о чем никто не должен был знать, даже она, Людмила Петровна, с ее сочувственной душой.
— Ах, какая это прекрасная вещь — жизнь, моя милая, — сказала она, — и ни один писатель не описал еще как следует, какая это прекрасная вещь, да этого, впрочем, никогда и не напишешь!
Лариса Васильевна взяла следующие листы верстки и понесла их к себе. Ей показалось странным, что Устиев все еще стоит на площадке темнеющей лестницы.
— Пожалуй, вы правы, — сказал он, словно она никуда не уходила, — пожалуй, вы правы… — На Балтике все-таки потеплее, чем на Белом мере.
И Лариса Васильевна сама не поняла, почему не занесла домой верстку, а спустилась вместе с Устиевым по лестнице, и они вышли вместе и пошли в глубину майских сумерек. Но самое для нее непонятное было то, что она все слышит, слышит весь мир с его запахами и красками, и ни краскам, ни запахам не нужно напрягать голоса, чтобы она услышала их.

Художник Г. Филипповский.
Григорий Бакланов Почем фунт лиха
Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы все стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.
На второй день мира, за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить.
В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты… Чтобы у меня не возникало сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын.
Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемна еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про козака, ускакавшего на вийноньку, и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.
Вот так и в это утро он сидел у стола, пока я завтракал, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто
Переживания и впечатления фронтовой жизни легли в основу будущих художественных произведений писателя. Позднее Бакланов вспоминал, что для своих литературных героев он всегда брал фамилии тех людей, с которыми он воевал. Особенно погибших однополчан, с тем, чтобы хоть так оживить их.
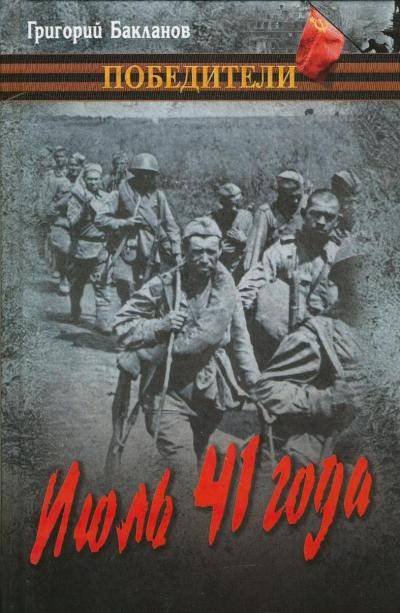

Григорий Бакланов скончался 23 декабря 2009 года на 87-м году жизни, был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Читайте также:

